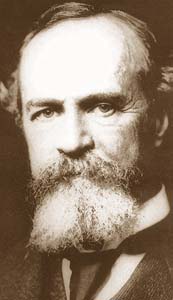 1. Как это часто бывает с идеями, носящимися в воздухе, эта теория ускользает от точной формулировки; она нигде не выражена во всей полноте, и существует только в намеках.
1. Как это часто бывает с идеями, носящимися в воздухе, эта теория ускользает от точной формулировки; она нигде не выражена во всей полноте, и существует только в намеках.
И по-моему нет никакого смысла в истолковании религии, как извращения полового инстинкта. Грубость, с какой оно по временам высказывается, напоминает известное ироническое замечание одного католика о том, что легче всего понять реформацию, если иметь в виду, что ее fons et origo (источником происхождения) было желание Лютера жениться на монахине.
В подобных случаях последствия бесконечно значительнее вызвавших их причин и большей частью по существу противоположны им. Без сомнения в общей массе религиозных явлений есть и такие, которые имеют резко выраженный сексуальный характер. Таков, например, культ божеств символизирующих идею пола и некоторые непристойные обряды в политеистических религиях. Таково экстатическое чувство единения с Христом у некоторых христианских мистиков. Но тогда почему же равным образом не утверждать, что религия – аберрация пищеварительной функции и не иллюстрировать наш тезис культом Вакха и Цереры или экстазами некоторых святых во время таинства Евхаристии? Таков уж факт, что религиозный язык облекается в те бедные символы, какие находит в нашей жизни.
Весь организм наш трепещет и звучит каждый раз, когда сильно взволнованный дух хочет выразить свои ощущения. Метафоры из области пищи и питья так же часты в религиозной литературе, как метафоры, заимствованные из области половой жизни. "Блаженны, говорит Иисус, алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся". "В Боге находим мы усладу нашу". "Вкусите и видите, что благ – Господь".
"Духовное молоко для американских питомцев, истекающее из материнской груди Ветхого и Нового Завета", – таков подзаголовок некогда очень распространенного в Новой Англии букваря. И действительно, христианская религиозная литература наполнена этим молоком, для тех, кто является по отношению к ней жаждущим пищи младенцем. Св. Франциск Сальский в таких выражениях описывает свою "молитву о покое": "Душа в этом состоянии, как ребенок у материнской груди когда мать, чтобы он затих на ее руках, дает своему молоку излиться в его уста, не дожидаясь их движений. Также и здесь Господь хочет, чтобы наше желание было удовлетворено млеком, которое Его благость изливает в наши уста, и чтобы мы вкушали сладость, даже не зная, что она исходит от Господа". И далее: "Взгляните на младенцев, приникших к материнской груди, и вы увидите, как они время от времени жмутся к матери от удовольствия, какое находят в сосании. Также и в продолжении этой молитвы сердце, соединяясь с Богом, делает много раз усилия еще теснее соединиться с Его божественной сладостью" (Chemin de Perfection, ch. XXXI; Traité de l'Amour de Dieu, VII сh. 1).
Можно было бы с тою же степенью убедительности представить религию, как извращение дыхательной функции. Библия полна образами дыхательного процесса: "Не отвращай Твоего слуха от моего дыхания; мои вздохи не скрыты от Тебя; мое сердце трепещет; силы оставляют меня; горят мои кости во время стенаний моих в долгие ночи; как олень желает на источники водные, так томится душа моя о Тебе, Господь мой".
"Божье дыхание в человеке" так озаглавлено сочинение известного американского мистика Томаса Лэйк-Гарриса (TНоmas Lake-Harris). В некоторых нехристианских странах в основе религиозного поведения лежит нормирование дыхательного процесса. Такие аргументы столь же основательны, как рассуждения, приводимые в защиту сексуальной теории. Сторонники последней могут возразить нам, что их главный аргумент во всем сказанном не имеет аналогии. Два важнейших явления религиозной жизни – меланхолия и обращения, характерные для юношеского возраста, скажут они, совпадают с моментом половой зрелости. Возразить на это легко. Ведь, даже если предположить, что такое совпадение неопровержимо установлено (чего на самом деле нет), нужно принять во внимание, что не только половая, но и всякого рода высшая духовная жизнь пробуждается вместе с юностью. Нужно признать тогда, что интерес к механике, к физике, к химии, к логике, к философии, к социологии, который расцветает в юношеские годы вместе с увлечением поэзией и религией, представляет также лишь извращение полового инстинкта, что будет уже очевидною нелепостью. Если же мы будем настаивать на совпадении во времени, куда девать такой факт, как усиленная религиозность старости, когда кипение половой жизни пришло к концу?
Когда дело идет о понимании религии, возможен только один путь – изучать непосредственное содержание религиозного сознания. Рассматривая вопрос с этой стороны, ясно видишь как мало отношения между религиозным сознанием и половой жизнью. Все здесь различно – и самый предмет, и настроения, и стороны души и проявления их. И нельзя отождествлять эти два состояния духа, такие различные, и часто даже враждебные друг другу. Если защитники сексуальной теории скажут на это, что их положение не опровергнуто, так как без химических элементов, вырабатываемых половыми органами, мозг не получил бы пищи необходимой для его религиозной функции – истинно или нет такое утверждение, из него нельзя сделать никаких поучительных выводов по вопросу о ценности религии. Таким образом, можно утверждать, что религиозная жизнь зависит от селезенки, поджелудочной железы и почек в той же степени, как и от половых органов; и от всей теории остается только это общее и смутное утверждение, что так или иначе дух зависит от тела.