 ОГЛАВЛЕHИЕ
ОГЛАВЛЕHИЕ
 >>>
>>>
1. Огромные трудности в проблеме аллегоризма у Филона
Проблема аллегории – это вообще одна из самых значительных проблем античного мышления. К сожалению, приходится констатировать, что этой проблеме все еще до сих пор не уделяется достаточно внимания, и самый этот термин "аллегория" чересчур быстро считается и объявляется как нечто весьма простое и не требующее анализа. Кто же не знает такого мирового жанра, как басня, где авторы вовсе не хотят изображать своих животных в буквальном виде и доказывать, что они действительно говорят человеческими голосами, и где вся суть вовсе не в этих образах, пусть хотя бы и очень художественных, но в той абстрактной идее, в отношении которой басенные животные являются только иллюстрацией и воспитательным примером. На самом же деле вовсе не всегда так уж особенно ясно, что такое аллегория. Обычно весьма плохо отдают себе отчет в том, какое отличие аллегории, например, от символа, от метафоры, от эмблемы, от олицетворения, да и вообще от художественного образа. Поэтому и в античной литературе, пересыпанной аллегорией, начиная от Гомера и кончая последними неоплатониками, этот термин тоже не отличается большой ясностью. И проблема античной аллегории запущена в науке до такой степени, что в настоящее время даже не существует какой-нибудь хотя бы элементарной сводки материалов по всей античной литературе. И тому исследователю, который захотел бы отдать себе в этом ясный отчет, приходится в отношении каждого античного автора создавать свою теорию аллегории с самого начала. И как раз Филон Александрийский больше, чем всякий другой античный автор, отличается самым напряженным вниманием к вопросам аллегории, поскольку вся его деятельность только и состояла из аллегорического толкования Библии. Что это за аллегоризм и что тут у Филона старого и нового, вопрос этот, можно сказать, весьма тяжелый.
Ближайшим образом аллегоризм у Филона есть продолжение стоического аллегоризма. Как мы хорошо знаем, стоики, исходя из своих субъективистских позиций, но в то же самое время не желая расставаться с общеантичным объективизмом, меняли свои субъективистские конструкции во всех областях объективной действительности. Это заставляло стоиков отвлекаться от объективной действительности в ее последней глубине (которая у них связывалась с представлением о судьбе), а понимать ее только с той стороны, которая была вполне понятна и в этом смысле имманентна человеческому субъекту. Если взять самый главный пример, то основной проблемой для стоиков была проблема максимально-конкретного человеческого мышления, то есть проблема слова; и поэтому, относя это слово и к объективной действительности, стоики и находили основную характеристику объективной действительности в приписывании ей тоже слова, но, очевидно, такого, которое мы теперь должны писать уже с большой буквы. А так как объективная действительность у стоиков, как вообще у античных философов, состояла из физических элементов, из которых самым важным, самым тонким и самым начальным был огонь, то стоики и учили об огненном Слове, которое и служило для них принципом объяснения всей объективной действительности. Очевидно, Слово являлось здесь не столько самой объективной действительностью, сколько ее знаком, ее символом, ее аллегорией. Или можно сказать и так: сам этот космический первоогонь был символом или аллегорией космического Слова.
Основными силами, действующими в космосе, были для стоиков, как и для всех античных философов, боги. Значит, оставаясь на позициях стоического субъективизма, надо было и этих богов принимать не буквально, как это происходило в исконной, народной религии, но аллегорически, приписывая им те или иные функции, которые требовались философией для характеристики всяких первоначал. Поэтому Зевс, например, оказывается не чем иным, как молнией и громом или вообще грозой, Гера оказывалась воздухом, Гефест – огнем, Посейдон – водой и т.д. И это обычно называется стоическим аллегоризмом.
Термин этот, вообще говоря, достаточно удобен для понимания философии и эстетики стоиков. Но только нужно иметь в виду, что аллегоризм в таком толковании термина указывает не на весь предмет аллегоризирования, но только на некоторую область, или на некоторую функцию этого предмета. Если гнаться за точной терминологией, то необходимо сказать, что только в одном случае гроза будет аллегорией для Зевса, а именно в том случае, когда Зевс мыслится гораздо шире, чем просто гроза, когда он имеет множество и всяких других признаков и функций и когда он по самой своей субстанции вовсе не есть гроза, а нечто более широкое. Аллегория же выдвигает на первый план только один из таких признаков. Ведь и в басне рисуются животные в гораздо более широком смысле, чем то, что им приписывается в каждом отдельном случае. Мы отвлекаемся решительно от всего, что зоологи говорят нам о муравье или о стрекозе, и берем только известные отношения между трудолюбием и беспечностью, о которых говорится в басне. А если мы и всерьез станем думать, что муравьи и стрекозы говорят человеческим голосом и что им на самом деле свойственны личные, моральные и общественные признаки, то наша басня уже перестанет быть басней, а станет самым настоящим мифом. Поэтому, чтобы соблюсти необходимый в данном случае логический минимум, надо будет во всяком случае утверждать, что наши аллегорические толкования какого-нибудь действительного факта вовсе не имеют в виду этот факт целиком, а только какой-нибудь его момент, и к тому же реально вовсе не свойственный самому этому реальному факту, а только той смысловой структуре, которую мы приписываем этому факту.
В этом смысле уже и у ранних стоиков была достаточная путаница. В одних случаях они действительно были аллегористами, то есть гроза не характеризовала Зевса окончательно и целиком, но только указывала на один его признак, нами хорошо продуманный или, по крайней мере, хорошо нами воспринятый в чувственном ощущении. Но если, отвлекаясь от Зевса в целом и приписывая ему управление грозой, мы спросим себя – соответствует ли в Зевсе что-либо такое, что на самом деле является господством над грозой, то в случае положительного ответа на этот вопрос мы должны будем сказать, что здесь у нас вовсе не аллегория, а полное соответствие Зевсу, хотя и не всему, а только представленному частично. Следовательно, при любой аллегории, если она точно выполняет свою функцию, содержится также и момент полной буквальности; или, как мы бы сказали, здесь уже не только аллегория, но и символ. Кроме того, стоики вовсе не сводили всех греческих богов только на физические аллегории. Богам приписывались также и всякие другие и притом более глубокие свойства, и личные, и моральные, и общественные, и разные свойства быть указанием на те или иные логические категории. Поэтому даже и в отношении древних и наивных стоиков вопрос об аллегории весьма осложняется. И вопрос об отличии аллегории от других эстетических модификаций в отношении стоиков в науке почти даже и не ставится.
Тем труднее обстоит дело с Филоном Александрийским. Ведь он является глубочайшим и принципиальнейшим аллегористом уже по одному тому, что вся его деятельность только и заключалась в философско-эстетическом толковании Библии. И при этом не нужно забывать еще и того факта огромной важности, что Библия является выражением монотеизма, совершенно чуждого греческим философам, которые и в своем материализме и в своем идеализме неизменно оставались язычниками, то есть принципиальными политеистами. Уже по одному этому можно себе представить, какой же сложностью отличается проблема аллегоризма у Филона. Для нашей настоящей работы мы поэтому считали бы огромной наивностью, если не прямо невежеством, претендовать на решение проблемы философского аллегоризма в целом. Самое большее, на что мы можем здесь надеяться, – это собрать кое-какие материалы, которые в будущем могут оказаться полезными для решения всей этой огромной проблемы в целом. Попробуем привести некоторые такие материалы из Филона.
2. Момент случайности и несущественности в аллегоризировании у Филона
Прежде чем говорить об аллегоризме Филона как о существенном для этого философа философско-эстетическом методе, укажем на то, что он отнюдь не везде и отнюдь не всегда является аллегористом в существенном смысле слова. У него множество таких текстов, где аллегория выступает в результате каких-то случайных и совершенно несущественных обстоятельств, в которых сам Филон не отдает себе отчета. Если принять во внимание весь этот разношерстный характер аллегоризма Филона, то вся философия и вся его эстетика только и будут заключаться в сплошном аллегоризировании. Ясно, что при таком сумбурном аллегоризировании значительная часть аллегорий Филона просто отпадает для историко-эстетического исследования и часто производит какое-то досадное впечатление. Исчерпать все эти случайные и несущественные типы аллегоризирования у Филона в нашем кратком изложении совершенно невозможно. Однако некоторого рода решение этой задачи мы все-таки могли бы предложить, опираясь на исследование крупнейшего русского знатока Филона В.Ф.Иваницкого35. Этот научный работник дал небывалое по своей обширности исследование текстов Филона, а также и всей научной литературы о Филоне начиная еще с XVIII века. Изображение аллегоризма у Филона, которое мы находим у этого автора, представляется нам и недостаточным и односторонним, поскольку его отношение к философскому аллегоризму уж чересчур негативное. И тем не менее те выводы об аллегоризме Филона, которые делает В. Ф. Иваницкий, взятые сами по себе, совершенно неопровержимы. И если мы хотим найти у Филона что-нибудь позитивное в этом смысле, то, конечно, все негативное, что есть у Филона, надо учесть и отбросить, чтобы расчистить путь для положительных утверждений.
Прежде всего, Филон одержим мыслью о том, что вся греческая философия заимствована у иудейских мыслителей, то есть из Библии. У него получается так, что даже и Гомер есть не что иное, как результат его иудейской образованности. Элеат Зенон, Гераклит, Сократ, Платон и стоики являются, по Филону, прямыми учениками Моисея. Такая убежденность и дает ему право толковать Библию согласно греческим философским теориям, а в этих последних находить только одно библейское откровение. Такая априорная убежденность Филона, конечно, ни к чему хорошему не приводила. Она оправдывала у него любые натяжки и самые невероятные типы интерпретации36.
Далее, Филон не только верит в боговдохновенность библейского текста, но и любые его нелепости, повторения, ошибки переписчиков и вообще любая мелочь Септуагинты принимается им всерьез, подвергается тончайшей интерпретации и становится источником иной раз весьма глубоких философских построений. Филон любил Библию. Но греческий текст Библии он тоже любил и, пожалуй, даже еще больше. Эту погоню за мельчайшими особенностями греческого текста Библии мы обязательно должны иметь в виду, поскольку они затемняют подлинное отношение Филона к аллегорическому методу. И если их принимать всерьез, то историческая ценность филоновского аллегоризирования невероятным образом понизится37. Выражение в Исх. 21, 15; Быт. 2, 17 о смерти Филон понимает почему-то как указание на духовную смерть порочного человека. Выражение Быт. 2, 16 "он вывел его вовне" Филон понимает как указание на освобождение Авраама от уз тела. Такого рода интерпретации, конечно, уж чересчур произвольны.
Далее, Филон прямо-таки влюблен в пифагорейско-платонические теории чисел и потому находит эти числа в разных и существенных и несущественных областях человеческой жизни. То, что монада является основой всех чисел и трактуется у Филона как символ божества, это еще более или .менее понятно, поскольку момент абсолютного единства, действительно, присутствует и там и здесь. Но приходится разводить руками, когда мы читаем у Филона, что Авраам вошел к Агари через десять лет после прибытия в Ханаан и что в этом сказывается совершенство числа 10. Число 5 указывает на область чувств потому, что человеческих чувств тоже всего пять; и по этому же самому так же и Бог сотворил животных с их ощущениями в пятый день творения. 12 – символ совершенства, так как в году 12 месяцев и знаков Зодиака тоже 12; 9 – символ спора, так как против Авраама враждовало девять царей38.
Далее, аллегории часто устанавливаются у Филона исключительно только в связи с каким-нибудь случайным признаком или обстоятельством, общим для предмета аллегории и для самого образа аллегории. Так, трава служит пищею неразумным животным. Значит, она означает чувство, то есть неразумную часть души. Соль всегда сохраняет свои свойства. Значит, она является символом постоянства. Посох – символ детства, поскольку детство нуждается в поддержке и руководстве. Колодец своею глубиною указывает на глубину знаний. Квасное, то есть поднимающееся, тесто является символом гордости. Верблюд – жвачное животное. Значит, он символизирует собою память. Лошадь символизирует страстность, необузданность, козел – строптивость39.
В результате подобного рода аллегоризирования, действительно, приходится расценивать филоновские аллегории как нечто случайное и не существенное. Что у Филона ничего другого не было, – с этим согласиться мы не можем; и в дальнейшем мы укажем на современных исследователей, которые вовсе не относятся к аллегориям Филона столь негативно. Однако результат этого негативного понимания филоновского аллегоризирования мы все же формулируем. В.Ф.Иваницкий пишет:
"Понятно, при подобном обращении с текстом Писания в нем можно находить какие угодно идеи. А так как в применении своих "правил" аллегории Филон отличается редкой настойчивостью и последовательностью, то и аллегории он находит во всем Писании. В конце концов оказывается, что вся почти жизнь еврейского народа – сплошной ряд символов; что Бог, с целью возвести ум читателей Писания к высшему, намеренно все течение жизни еврейского народа направлял по данному именно руслу, а через пророков выразил в данной именно форме. Люди, животные, растения, предметы, отдельные действия и состояния – все это лишь образы высшей истины, доступные только людям избранным. Таким образом, Филон вращается в особом мире – мире идей; он оперирует с ними, как с живыми личностями; под его художественным пером они получают необыкновенно конкретный характер. Это – почти живые существа, каждое с особой индивидуальной жизнью и личными свойствами. Они рождаются, умирают, борются, враждуют, произносят один к другому целые речи и т.д. В области символов и отвлечения от конкретного Филон чувствует себя необыкновенно свободно. Однако далеко не так свободно следит за мыслями автора читатель. В быстрой смене различных символов, самым причудливым образом переплетащихся один с другим, где одна аллегория нагромождается на другую, один символ нанизывается на другой, мысль читателя, в конце концов, запутывается и он теряет нить рассуждений автора"40.
В заключение этой негативной характеристики аллегоризма Филона все-таки необходимо напомнить читателю, что аллегория, наряду с такими категориями, как символ, эмблема, олицетворение, тип, художественный образ и миф, играет огромную роль в истории человеческой мысли и вообще является одной из важнейших эстетических модификаций. Поэтому у тех авторов и в тех произведениях, где она выставляется на первый план, она должна быть изучаема весьма тщательно. И такое требование необходимо особенно настойчиво предъявлять к истории эстетики. Следовательно, также и мы должны поискать у Филона такие эстетические приемы, которые не сводятся только на негативно употребляемые аллегории. А если мы ничего такого не найдем, то о негативной сущности филоновского аллегоризма нужно будет говорить от себя уже вполне ответственно и не ссылаться только на другие исследования.
3. Непосредственный духовно-жизненный смысл аллегоризма
Случайность и несущественность многих аллегорий у Филона учитывать надо, и мы их учли. Однако весьма поверхностно поступают те ученые, которые сводят весь филоновский аллегоризм только на всевозможные случайные и несущественные оценки Филона в его понимании Библии и в его стоическом платонизме. Аллегоризм для Филона – дело чрезвычайно существенное и ни в каком отношении не случайное. Филон проникнут пафосом философа и человека видеть и находить во всем то, что можно было бы назвать ликом божиим, то есть той непосредственно данной и ощущениям и мыслям личностной основой его богопочитания.
В конце концов, ведь совершенно даже и не важно, какая мысль и какое обстоятельство привели Филона к тому или иному аллегорическому толкованию библейского текста. Для него ведь важна сама аллегория, ее собственное содержание, ее религиозно-философская значимость. А как он пришел к этой аллегории и что именно натолкнуло его на эту аллегорию, это ведь совсем не важно ни для Филона, ни для нас. Поэтому духовно-жизненное содержание аллегорий для Филона – это самое важное. Важно также и то, что это духовно-жизненное содержание аллегорий представлено у Филона вполне непосредственно, совершенно ясно и отчетливо, так, как будто бы сам Филон, и притом своими собственными физическими глазами, видел все эти вещи и события в их аллегорической значимости. Всякому, кто хотел бы познакомиться с эстетикой Филона, совершенно необходимо учитывать эту непосредственную данность филоновского аллегоризма.
Ни в каком случае нельзя представлять себе дело так, что объясняемое при помощи аллегории то или иное явление жизни для Филона есть одно, а сама аллегория есть нечто совершенно другое. Все бытие для Филона в одно и то же время является и им самим и известного рода аллегорией, которую Филон в нем находит. Поэтому часто даже можно оспаривать применение самого термина "аллегория" для эстетики Филона. И если мы говорим в нашей работе об аллегоризме Филона, то это скорее всего некритическая дань установившейся еще со времен самого Филона философско-эстетической терминологии. На самом деле у Филона часто идет речь вовсе не об аллегории, но о том, что мы сейчас назвали бы символом, эмблемой, метафорой, типом, художественным образом и даже мифом. Все это – результат необычайно богатого содержания филоновского аллегоризма; и если уж включать Филона в историю античной эстетики, то это эстетическое богатство филоновского аллегоризма нужно учитывать в первую очередь.
Привычка поверхностно и чисто внешне понимать аллегории Филона еще до настоящего времени в науке весьма сильна. Но мы хотели указать хотя бы на одно-два современных исследования Филона, уже выходящие за пределы этой поверхностной аллегоризации. И прежде всего мы указали бы на рассуждения о Филоне у Эмиля Брейе, который, впрочем, тоже не очень силен в различении аллегории, метафоры, символа и мифа, но который все же, не в пример другим исследователям Филона, отдает дань именно тому, что мы назвали выше непосредственным и духовно-жизненным содержанием аллегории.
Для Филона, пишет Э.Брейе41, характерны две черты – убежденность в том, что иудейский закон тождествен природному закону, а также аллегорические интерпретации всего с этим связанного материала. Книги пророков и предписания Моисея рассматриваются Филоном как модели, соотнесенные с природой (в стоическом смысле слова). Он придает иудейству тот моральный универсализм, который несовместим с узким национальным мессианизмом. Его усилия направлены на отождествление предписаний Моисея и естественных законов.
Что касается аллегорических интерпретаций, то у Филона в александрийской среде уже были предшественники. Во всяком случае, традиция здесь была очень ограниченна, например в интерпретации человека как образа божия.
Аллегорический метод тесно связан с философской мыслью Филона, особенно аллегорически представлена им внутренняя моральная жизнь человека. Филон не разыскивает в священных текстах никакой в собственном смысле философской теории. Чаще всего он непосредственно излагает свои теории, опираясь на них же самих. В Библии он ищет не ту или другую истину, как описание отношений души к богу, ее безгрешность, ее греховность и раскаяние. Аллегорический метод Филона ничего не доказывает и не хочет ничего доказать. Это не орудие апологетики. В "Жизни Моисея", имеющей задачи пропаганды, аллегории почти не употребляются, а вся апология заключается в признании моральной высоты еврейских законов.
Аллегория зато дает неоценимый материал для описания внутренней жизни человека со всей ее конкретностью и мистикой. Для Филона в его понимании божества, таким образом, характерна этическая направленность, а не физическая, как было некогда. Божественный разум здесь из материального дыхания (пневма) переходит в принцип морального воодушевления. Поэтому ангелы – это посредники столько же материальные, сколько и духовные. Стремление же Филона – вообще упразднить всякое посредничество между богом и человеком, что особенно заметно в его учении о логосе.
Если у стоиков логос – это связь частей мира, у гераклитовцев – источник космических оппозиций, то у Филона – логос божественное слово, которое открывает бога душе и усмиряет страсти.
В другой своей работе тот же автор различает в аллегорическом методе Филона три взаимно связанных тенденции42.
Первая тенденция из них – физическая, или астрономическая. Так, ковчег Завета и связанные с ним предметы культа символизируют мир и его отдельные части. Херувимы, поддерживающие вход в ковчег, – две полусферы. Завеса ковчега и ее кольца – два равноденствия и четыре времени года.
Во-вторых, для Филона важна духовная тенденция в смысле космического восхождения. Ковчег представляет интеллигибельный мир, а отдельные его аксессуары – это разные божественные силы.
В-третьих, духовный смысл, приложимый к душе и ее внутреннему состоянию. Тогда ковчег есть душа с ее неподкупными добродетелями, невидимые мысли души и ее видимая деятельность (De cherub. 53-54).
Цель Филона – "показать в смене событий и предписаний еврейской истории внутреннее движение греховной души, погружающейся в свои ошибки или надеющейся на спасение и вступление в невидимый и высший мир"43. Филон, можно сказать, соприветствует тенденции неоплатоников, которые не занимались физическим смыслом древней мифологии, а искали в ней мистический путь души к ее истинной родине.
Сам Филон в сочинении "О созерцательной жизни", изображая секту терапевтов, ссылается на их аллегорические интерпретации книги Закона. Он пишет, что терапевт толкует священное писание в глубокомистическом смысле, прибегая к аллегориям. Для них закон есть некое живое существо. Тело закона – письменные предписания, а душа его – невидимый, подразумеваемый смысл слов. В нем разумная душа начинает созерцать свой собственный предмет. В зеркале имен она видит как бы в некоем роде собственное размышление о красотах мыслей. Душа открывает и раскрывает символы, приводит обнаженные идеи к свету, особенно для тех, кто может созерцать невидимое через видимое (De vita contempl. 8).
Здесь что ни слово, то аллегория. Голый текст закона – тело без души; скрытый смысл их составляет душу (ср. такое же понимание метафоры зеркала у Климента Александрийского). Таким образом, аллегория как бы конденсирует в себе мысль, и одно слово может вызвать к жизни целый ряд значений.
Ко всему вышеприведенному дадим еще несколько примеров из самого Филона. Те же терапевты наводят Филона на мысль о гомеровских гиппемолгах, которые питаются молоком и не имеют имущества (Hom. Il. XIII 5 сл.). Филон видит в гомеровских стихах стремление поэта показать, как жизненные блага ведут к несправедливости, следствию неравенства. Противоположное решение утверждает истину и равное распределение богатств, доставляемых природой (De vita contempl. 16-17).
В Ганимеде, виночерпии богов, похищенном Зевсом (II. XX 232), Филон видит символ божественного слова, которое "проливает в блаженную душу священную чашу радости нахождения истины", а сам виночерпий, добавляет он, "смешивается с напитком", так как слова бога тоже амброзия, "бессмертный эликсир счастья" (De somn. II 249).
Мифологические Диоскуры – две половины неба, кажущиеся то нижней, то верхней его частью. Аскет, который ведет духовную жизнь и знает ее взлеты и падения, подобен мифологическим Кастору и Поллуксу, укротителю лошадей и кулачному борцу, которые чередуются в жизни и смерти, в небе и Аиде. Здесь же библейская аллегория – жизнь аскета – лестница во сне Иакова, ведущая вверх и вниз. Или – аллегория бытовая: аскетическая жизнь, как удачное и плохое плаванье (De decalogo, 12, 54). Филон воспевает символику гебдомады, используя знаменитый библейский образ почившего от трудов на седьмой день бога (De opif. m. 35-42).
4. Техника аллегорических интерпретаций у Филона
В области изучения филоновского аллегоризма в положительном смысле слова шагом вперед является работа Ирмгард Кристиансен44. Познакомимся с содержанием этой книги, трактующей вопрос о технических приемах аллегоризирования у Филона.
В главе первой "Техническая основа" автор обосновывает следующий тезис:
"Употребление диалектического метода диэрезы (диайресис) для толкования передаваемых текстов создает основу науки аллегорического толкования"45.
"Филон разделяет с составителями античных учебников стремление упорядочить материал в замкнутую пирамиду понятий при помощи диэрезы".
Исследовательница считает диэрезу логическим инструментом платонизма, которым и Филон "пользовался, как платоник. Это значит, что для него диэреза – техника, ведущая к созерцанию идей"46. Но диэреза как логический инструмент – "не просто методический прием (как у авторов учебников)... Платон в "Софисте" говорит, что диалектика диэрезы подходит только тем, кто правильно философствует. Но и философствует правильно тот, считает Платон, кто умеет созерцать идеи с помощью диэрезы". Как Платон приписывает истинному философу диэрезу, так Филон, считает Кристиансен, приписывает созерцающим аллегорию. "Эти созерцающие любят аллегорию", – пишет Филон (De plant. Il 36)47.
Характеристикой аллегорического толкования является использование символов, источником которых Кристиансен называет "возможные отношения, в которых могут стоять понятия друг к другу"48.
"Цель диэрезы (как показал Платон в "Софисте" и "Политике") – дефиниция. Предпосылкой для искусной дефиниции является верное деление. Дефиниция, которая выросла из такого искусного деления до неделимого эйдоса, позволяет познать собственное свойство вещи, лежащей в основе понятий, тем, что дефиниция охватывает развернутый образ понятия"49.
В связи с методом диэрезы автор ставит два вопроса, ответы находя у Платона:
1) Как соотносятся понятия разного рода, но относящиеся к одному ключевому понятию?
2) Какие понятия Платон считает однородными?50
Ответом на эти вопросы являются у Кристиансен "диэретические схемы" рыболова и софиста, построенные на основе текста диалога "Софист" (219 а – 221 в).
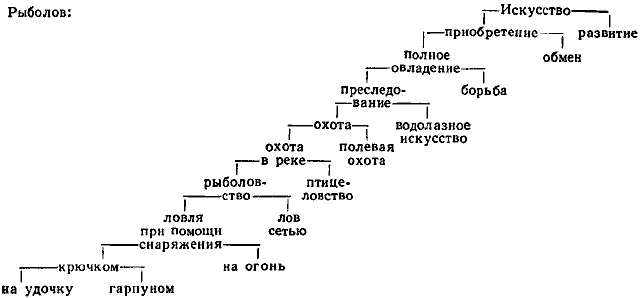
Диэретическая схема софиста до четвертого уровня деления полностью тождественна схеме рыболова, так что общая их диэретическая схема имеет такой вид:
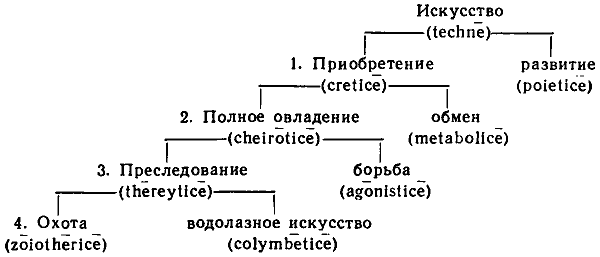
Таким образом, понятия рыболова и софиста родственны, так как они охватываются четырьмя высшими ступенями деления. Оба понятия слиты в эйдосе охоты.
Все это рассуждение И.Кристиансен не является понятным сразу и без всяких пояснений. Если мы спросим себя, зачем понадобилась этому автору платоновская теория диэрезы, то мы должны внести сюда некоторую ясность, которая не дана у автора достаточно отчетливо. Именно – платоновская диэреза имеет свой смысл не просто как разделение общего понятия на ряд видовых понятий. Она заставляет мыслящего рассматривать общее в свете единичного и единичное в свете общего. Другими словами, платоновский метод диэрезы требует структурного рассмотрения всякого понятия вообще, так что все понятия сравниваются между собою именно с точки зрения их смысловой структуры. Если именно так понимает автор платоновскую диэрезу, то привлечение платоновской диэрезы, несомненно, является весьма продуктивным методом при рассмотрении самой техники филоновского аллегоризирования. И что именно смысловая структура понятия является здесь самым главным принципом, это видно из последующего анализа.
Именно, считая характеристикой аллегорического толкования у Филона использование символов, Кристиансен посвящает следующую главу книги технике этого использования.
В главе второй ("Техника употребления символов")51 исследовательница, по своему обыкновению, обосновывает вынесенный в подзаголовок тезис:
"Символ есть выражение соучастия двух понятий в одной идее. Одно из этих понятий передано словом Священного писания. Путь к познанию единства идеи ведет лишь через познание равенства и тождественности (этого слова и его heteron, "другого"). Техника использования символа стремится к тому, чтобы охватить равенство или тождественность двух понятий. Десять аристотелевских категорий являются важным инструментом этой техники!"52
В разделе А главы первой ("Структура символических толкований")53 Кристиансен приводит большие выдержки из Филона (до двух страниц, с параллельным переводом) и выясняет природу символического толкования того или иного места из Писания.
Так, приводя цитату из трактата "О сновидениях" (De somn. I, 102-107), где Филон называет гиматий символом логоса, исследовательница выясняет основания филоновской трактовки. Гиматий – слово из Писания (Исх., 22, 25), логос – heteron, которое Филон сополагает слову из Писания. "Отношение, возникшее между ними, Филон обозначает словом "сюмболон"54.
Толкование слова himation трехчастно:
одежда
Точно так же и логос, который
Структуру символического толкования в наиболее простом виде Кристиансен представляет так:
В том же трактате "О сновидениях" (De somn. I, 133-156) речь идет о лестнице Иакова, называемой Филоном символом неба, населенного душами, и души человека, а также картиной (eidölon) человеческих отношений. По поводу лестницы Кристиансен составляет сходную схему. Но возникает вопрос: устанавливается ли это равенство понятий ассоциативно или по каким-нибудь правилам?
В основном тезисе второй главы Кристиансен писала: "Десять аристотелевских категорий являются важным инструментом этой техники" (то есть техники употребления символов)! Его обоснованию посвящен раздел В первой главы: "Десять аристотелевских категорий"56.
Филон приводит десять категорий в сочинении De decalogo. 30 слл.: сущность (субстанция) (oysia), качество (poion), количество (poson), отношение (pros ti), действие (poiein), претерпевание (paschein), обладание (echein), положение (ceisthai), время (chronos) и пространство (topos).
"С помощью этих десяти аристотелевских категорий Филон вскрыл тождественность, чтобы таким образом суметь определить слово Писания как символ некоего heteron"57.
Исследовательница показывает, как любая символическая трактовка у Филона пронизывается той или иной аристотелевской категорией. Техника употребления символов немыслима вне десяти категорий, связующих весь ряд символических трактовок у Филона. Вот примеры Кристиансен к категориям обладания (echein), качества (poion) и времени (chronos).
В трактате "О жизни Моисея" (De vita Mosis, II (III), 117 слл.) Филон говорит о хитоне Первосвященника, с головы до пят гиацинтовом, в ногах которого вышиты гранаты, цветы и колокольчики – символы воды, земли и гармонии. Хитон (небеса) охватывает все три стихии, они суть в нем одно, хитон – их носитель (ochema)58. Тут перед нами аристотелевская категория обладания.
В другом трактате (De spec. leg. IV, 110 слл.) Филон показывает, что в технике употребления символов применяется категория качества. Моисей признавал водяных тварей по плавникам и чешуе (см. Лев., II 9; Втор., 14, 9). Ту, что не имела их, или имела только что-то одно, он выбрасывал. Такова же и душа: чистая – благостна (чистые рыбы – с плавниками и чешуей), нечистая – исполнена силы и мощи (нечистые рыбы – без плавников или без чешуи, или без того и другого). У противопоставленных тварей и душ равенство и тождественность возникают в недостатке качества59.
Там же (De spec. leg. I, 289) Филон пишет:
"Как душа причина того, что тело не гибнет, так и соль: ...приноси жертвы с солью. Соль сохраняет длительность вещи (diamone)".
Снова налицо аристотелевская категория: на этот раз времени.
По поводу привлечения десяти аристотелевских категорий к толкованию филоновских аллегорий необходимо отметить два обстоятельства. Во-первых, очень хорошо, что здесь мы имеем попытку как-нибудь классифицировать филоновские аллегории по их смысловому содержанию. Это действительно вносит некоторого рода структурное обоснование и техническую определенность в аллегорические методы Филона. Однако, во-вторых, привлечение именно аристотелевской таблицы категорий нельзя считать удачным. Аристотелевская таблица категорий страдает весьма большой путаницей, поскольку все эти категории отнюдь не равноценные и отнюдь не одинаково общие. Некоторые из этих категорий являются разновидностями других категорий, так что в конце концов только три категории – субстанция, качество и отношение – являются у Аристотеля основными и не перекрещиваются одна с другой, в то время как остальные категории можно без всякого труда подвести под эти три основные категории. Поэтому если И.Кристиансен пользуется аристотелевской таблицей категорий некритически, то аристотелевская путаница, очевидно, характеризует собою и основные типы филоновского аллегоризирования, которые, очевидно, требуют для себя какой-то другой классификации. Впрочем, сама попытка классификации филоновской аллегоризации заслуживает полного внимания и даже в этом спутанном виде все же указывает на разные аллегорические методы, весьма оригинальные и требующие только иного распределения.
Подводя итог главе о символическом толковании у Филона, Кристиансен пишет: "Символическое толкование есть синтетическая техника внутри науки аллегорического толкования"60.
В следующей главе ("Техника диэрезы") автор подробнее рассматривает главный тезис первой главы ("Наука аллегорического толкования применяет диалектический метод диэрезы") и делает вывод о том, что "при помощи верной диэрезы идеи познаются трояко"61. Во-первых, идея познается как распространяющаяся повсюду через многие, обособленные друг от друга идеи. Так, идея знания – через идею творчества и управления, отдельно управления и управления стадом, распространяется повсюду. Во-вторых, все отличные друг от друга идеи охватываются одной высшей. Так, высшая идея "Человек" охватывает идеи души и тела, ума и чувственного восприятия, и т.д. Наконец, идея через единство многих сводится в одно и становится отличной от всех62.
Из этого рассуждения И.Кристиансен необходимо сделать тот вывод, который мы еще раньше предположили в целях более отчетливого понимания метода диэрезы. И.Кристиансен здесь прямо говорит, что в диэрезе идет речь о соотношении целого и частей и что, следовательно, в анализе каждой филоновской аллегории ведущую роль играет диалектика структуры целого и частей. Это станет еще яснее из последующего.
Четвертую главу книги, "Дефиниция аллегорезы", Кристиансен посвящает обоснованию тезиса о том, что
"аллегореза есть форма интерпретации, с помощью которой развертывается единство идеи, которую слово Писания содержит неразвернуто: слову Писания сополагается равнозначное понятие, более общее, чем развернутое слово Писания"63.
"Филон нигде не определяет прямо свою аллегорическую методику толкования. Он говорит о законах или правилах аллегории (De Abr. 68; De spec. leg. I, 287; De somn. I, 73; 102), он знает законы аналогии и истины (Quis rer. div. her., 154, 160; De confusione ling., 2; Leg. allegor. III, 233; Quod det. potiori insid. soleat. 125)".
В одном месте, пишет Кристиансен, Филон называет аллегорию "мудрым архитектором", по чьему указанию аллегорически толкуется избранный текст (De somn. H, 8). Чаще, однако, Филон пользуется словом "символ". В трактате "Об Аврааме" (De Abr. 119) словом "сюмболон" обозначается отношение, в котором находятся язык и мысль.
Кристиансен пишет, что в греческой философской литературе сохранились определения аллегории, нашедшие исчерпывающую разработку у Филона. Таковы дефиниции аллегории Гераклита-ритора (Quaest. Нош. 5, 15-16) и позднейшего византийского ритора Кокондрия (Peri tropon. 9, 234). Оба определения говорят о двучастности аллегории. То, что говорит аллегория, обозначено словом agoreyö (у Кокондрия – deioö cyrios) ; то, о чем говорит аллегория, обозначено словом semaine (у Кокондрия – ennoian paristemi). Первая часть относится к области языка, вторая – к области мысли64. Противопоставление "то – другое" в его греческом (heteron – heteron) и латинском (alter – alter) вариантах "учит, что противопоставление уже содержится в первом члене пары... Оба члена стоят в том же отношении к чему-то, что от них отлично. Само это противопоставление обоих членов устанавливает их однородность. И вот как однородная пара они суть двоица (dyas)"65. Кристиансен показывает, таким образом, что в аллегории представлено взаимодействие принципов единого (hen) и двоицы (dyas)66.
"Множество понятий, представленное в Писании, через посредство единого идеи становится в аллегории ограниченной двоицей... Аллегория должна пониматься как величина, которая есть как единство, так и ограниченная двойственность"67.
Кристиансен составила специальную таблицу пар толкования у Филона, разобранных в тексте68. Вот эта таблица.
| Стр. книги |
Слово из Писания
(1-й член) |
Толкующее понятие
(2-й член аллегорическом фигуры речи) |
|---|---|---|
| 48 | гиматий | логос |
| 53 | лестница Иакова | небо, населенное душами |
| 61 | лестница Иакова | душа человека |
| 64 | лестница Иакова | жизнь аскета |
| 65 | лестница Иакова | картина (eidölon) человеческих отношений |
| 67 | змея (ophis) | софросина (söphrosynё) |
| 70 | змея | радость (hёdonё) |
| 71 | Эфраим | память (mnemё) |
| Манассия | воспоминание (anamnёsis) | |
| 80 | хитон Первосвященника | небеса – вообще космос, включая небо, землю и их гармонию |
| 83 | цветы (anthina) | земля (gё) |
| гранаты (rhoidioi) | вода (hydör) | |
| колокольчики (cödönes) | гармония и симфония (harmonia cai symphonia) | |
| 85 | Еообще нижнее платье (хитон) | все три стихии (земля, вода, их гармония) |
| 86 | Херувим и вращающийся меч | движение всего мира (phora toy pantos oyranoy) |
| 89 | Херувим | две силы: власти и благости (dyo dynameis: archёs cai agathotetos) |
| 91 | огненный меч | логос |
| 94 | небо и поле (agros cai oyranos) | ум (noys) |
| 95 | водяные твари с их плавниками и чешуей (enydra) | душа, исполненная силы и мощи (psychё carterian cai egerateian pothoysa) |
| 96 | соль (hals) | пребывание, постоянство (diamonё) |
| 101 | земледелец (geörgos) | душа (psychё) |
| 112 | землепашец (ho gёs ergatёs) | тело (söma) |
| 116 | пастух (poimёn) | ощущение (aisthesis) |
| слл. | тот, кто кормит скот (ctёnotrophos) | ум (noys) |
| 121 | всадник (верховой – hippeys) всадник (на колеснице – anabatёs) | рассудок (logismos) страсти (pathё caciai) |
| 89 | Херувим | та и другая полусферы |
| 91 | Огненный меч (phloginё rhomphaia) | солнце (hёlios) |
Единство двух членов обозначается термином "символ". Два способа рассмотрения аллегории как единого и двойственности делают вполне отчетливым, до какой степени понятия могут отличаться друг от друга, чтобы быть одновременно тем же самым одним эйдосом.
Резюмируя главу об аллегорезе, Кристиансен пишет следующее:
"Аллегория есть одновременно hen и dyas: понятия этой фигуры речи суть отличные и вместе с тем одно и то же. Аллегория двучленна. Понятие второго члена частично или целиком относится к сфере мысли; первый член диады представляет область телесного. Это противопоставление внутри аллегории соответствует противопоставлению тела душе. <...>
Аллегореза есть метод развертывания слова Писания для того, чтобы схватить единое, идею, которая присутствует в слове Писания. Но hen может быть понятно лишь как hen: hen, как равное, или то же самое. На этом основании аллегорический метод сополагает слову Писания однородное понятие; это сополагаемое понятие – более общее, чем понятие в слове из Писания. В этом процессе развертывания возникает ограниченная двоица, которая соразмерна единым; ведь оба члена двоицы стоят в равном отношении (логосе) к единому. Такой логос сводит однородные члены аллегорической фигуры речи в единое. В аналогии сводящая вместе функция логоса находит свою собственную форму выражения"69.
Если мы теперь захотели бы подвести общий итог исследованию И. Кристиансен, то, очевидно, мы могли бы сказать следующее.
Кристиансен прекрасно поступает, если она отбрасывает ходячее и обывательское представление об аллегории70. Если речь идет об аллегориях именно Филона, то эта категория аллегории выступает в форме весьма углубленного и насыщенного умозрения. Собственно говоря, если аллегорию понимать в обычном и школьном смысле слова, то такие аллегории трудно даже и найти у Филона. Картинная сторона аллегории у Филона вовсе не является только иллюстрацией какой-нибудь общей идеи или каким-то частным и несущественным примером функционирования этой идеи. Образ и идея образа слиты в филоновских аллегориях в нечто единое и нераздельное, в нечто одинаково существенное и нераздельно-единичное. Об аллегориях Филона можно говорить только в том смысле, что их образная сторона отлична от их идейного содержания. Но на этом аллегория вовсе не кончается. Наоборот, само это разделение образа и идеи требует также и полного слияния того и другого в некое единичное и существенное целое. И тут уже не годится термин "аллегория". Тут нужно говорить уже о символе. Об этом достаточно текстов у самого Филона, и Кристиансен старается учесть всю соответствующую терминологию Филона. Таким образом, хочет доказать этот автор, одни образы Писания выступают у Филона действительно как в первую очередь аллегории, а другие – в первую очередь как символы. Но мы бы сказали, что аллегория и символ в такой трактовке вообще не могут существовать ни только раздельно, ни только слитно. Даже в самой внешней, мы бы сказали, басенной аллегории невозможно обойтись без, хотя бы частичного, слияния образа и идеи.
Нам казалось бы, что работа Кристиансен не лишена больших недостатков, и многие поднятые здесь вопросы еще требуют своей доработки. Тем не менее в этой работе много очень важных мыслей, которые будят ум к дальнейшим, весьма перспективным исследованиям по Филону.
5. Попытка проанализировать положительные достижения эстетики у Филона
Несмотря на множество отмеченных у нас выше случайных и несущественных моментов в эстетической терминологии Филона, положительное значение его эстетики все же вполне определенным образом дает о себе знать. Правда, основное философское противоречие у Филона, возникшее в результате полной невозможности объединить Библию с языческой философией греков, остается нерушимым фактом, против которого, насколько нам известно, не было выдвинуто ни одного сколько-нибудь значительного аргумента. Поэтому, не желая производить филологическое насилие над текстами Филона, мы должны с этим его основным философским противоречием примириться и не пытаться его сгладить, а пытаться формулировать эстетику Филона при соблюдении этого основного противоречия во всей его непреодолимой значимости.
Но тогда, очевидно, нужно будет говорить по крайней мере о двухплановой эстетике Филона, то есть о библейской и языческой, формулируя каждую из них в отдельности и не стремясь к их примирению, раз этого примирения невозможно найти у самого Филона.
а) Итак, что такое библейская эстетика Филона? Само собой разумеется, подробный ответ на этот вопрос не может входить в нашу задачу, ограниченную рамками только античной эстетики. Об этом могут иметь подробное суждение только гебраисты.
Что же касается нас, то мы коснемся этого вопроса не столько в целях освещения библейской проблематики, сколько для целей выяснения основной линии развития греческой эстетики и для целей размежевания этой эстетики с другими типами эстетического построения, с которыми греки известного периода в силу неизбежных исторических причин пришли в соприкосновение.
Эстетика Филона в библейском смысле слова начинается с противопоставления сверхпредикатной абсолютной личности и ее мышления. Не проводя никакого диалектического метода, а просто фиксируя определенные результаты своего религиозного развития, библейские авторы волей-неволей должны были выдвинуть такую категорию, в которой сливались бы в одно нераздельное целое непознаваемая и познаваемая сторона этого абсолюта.
Такой синтетической категорией Филон, безусловно, обладает. Но, отражая иудейское религиозное мировоззрение, он пользуется разнообразными его терминами, философский смысл которых ему самому неясен, но зато религиозная значимость которых для него совершенно необходима. Таким термином является у него, прежде всего, логос, который он, правда, заимствовал у стоиков, и который, правда, иной раз и отличается у него стоическим характером, но в основе своей он далек от всякой Стои, как и вся Библия в своем окончательном виде вполне чужда язычеству. Такие неясные выражения, как "второй бог", "сын божий", "идея идей", "мудрость", нужно у Филона понимать прежде всего по-библейски, а не язычески-философски. И тогда станет вполне ясной эта третья, уже синтетическая категория, несмотря на всю путаницу относящихся к ней терминов, и станет ясной также и эстетика Филона, если под эстетикой понимать учение о выражении. Непознаваемая, сверхсуще и надмирная личность является здесь тем внутренним, что должно быть внешне выражено, а логос и все другие аналогичные термины Филона указывают на то, как выражено невыразимое и как, несмотря на исходную непознаваемость абсолюта, вся Библия все же пронизана тем, что мы сейчас и можем назвать эстетикой выражения.
Но тут же ясно и языческое своеобразие того первичного единства, которое Филону хочется здесь привлечь. Если собрать все тексты у Филона, относящиеся к этому изначальному единству, то стоит отделить имя Иеговы, как все остальное окажется блестящей чисто языческой характеристикой давнишнего платоновского, если еще не парменидовского учения о Едином. И станет вполне ясным, что греки, не понимая имени Иеговы и всей иудейской специфики, прекрасно поняли и филоновское единое, то есть непознаваемый момент абсолюта, и необходимое для Филона учение о таком же абсолютном мышлении (без допущения которого получился бы и антииудейский и антигреческий агностицизм), и ту третью, уже чисто выразительную категорию, которую Филон характеризует разнообразными способами, но которые свидетельствуют о том, что даже на чисто иудейской почве у Филона была самая настоящая и вполне положительная эстетика.
б) Такая же двуединая эстетика проводится Филоном и в проблеме отношения бога к миру. То, что мы знаем из древнегреческой философии и эстетики, сводится здесь к простейшей и понятнейшей концепции. Согласно этой концепции мир существует вечно, не имея нигде и никогда никакого начала и конца. Самое большее, что могло бы здесь указывать на неполную вечность мира, это учение о вечном возвращении. Мир сначала зарождается из хаотического состояния элементов, укрепляется, оформляется, доходит до зрелого состояния, потом постепенно начинает хиреть, болеть и, в конце концов, умирает, превращаясь опять в бесформенный хаос. Из этого хаоса вновь появляется космос, проходит те же самые стадии развития, опять погибает, опять превращается в хаос; и так – до бесконечности. В каждом периоде мирообразования существуют свои обобщенные принципы, именуемые богами или демонами, которые тоже и рождаются и погибают вместе с рождением и гибелью миров. Яснее всего это выражено у Эмпедокла. Но эта картина мироздания, собственно говоря, так и осталась в основе своей почти неизменной в течение всей античной философии и эстетики.
Конечно, никакого надмирного божества, личного и несравнимого с этой безличной и бесконечной космической историей, у греков никогда не существовало. Такого божества, которое создавало бы этот или какой-либо другой мир, греки никогда не знали, не понимали и не формулировали. Правда, было немало охотников понимать платоновского "Тимея" монотеистически и термины, обозначающие здесь возникновение мира, понимать как указание на творение мира. Однажды нам уже пришлось опровергать эту христианизацию платоновского "Тимея"71, и заниматься здесь этим мы не будем. И у Платона и где угодно в другом месте античной философии мыслится бесконечная материя, которая, может быть, самое большее только оформляется и организуется демиургом, но в своем беспорядочном состоянии она такая же вечная, как и самый доподлинный платоновский мир идей. Демиург у древних греков – вовсе не личность, а вполне безличная сила, обобщенная формула всего целесообразно функционирующего в космосе и во всей мировой истории.
То, с чем греческие философы столкнулись у Филона и в Библии," не имеет ничего общего с формулированной у нас сейчас картиной мироздания, в основе своей пантеистической. Появилось новое, не бывалое и не понятное никакому греческому философу учение о творении мира из ничего. В этой концепции для греков не был понятен ровно ни один момент, или был понятен, но чисто космологически, чисто пантеистически и, в конце концов, чисто материалистически. И этих новых моментов в Библии и у Филона было несколько.
Во-первых, какой окончательный смысл могла иметь такого рода концепция мироздания? Прежде всего, как это теперь ясно нам в перспективе тысячелетней истории культуры, основной смысл концепции творения из ничего возникал на почве стремления во что бы то ни стало охранить и оформить личностное понимание бытия.
Ведь лично то, что оригинально, своеобразно, неповторимо, несводимо ни на что другое и, прежде всего, неразрушимо. Если что-нибудь разрушимо, это значит, что существует нечто более основное и более оригинальное, чем личность; и сама личность в этом случае, будучи составленной из чего-нибудь другого, вовсе не так уже оригинальна и неповторима. Ведь даже материалист Демокрит, впервые выдвигая в истории философии и эстетики принцип единичности, должен был сделать свои атомы неразрушимыми, вечными и даже неприкасаемыми. А иначе структура его атомов была бы явлением более или менее случайным и ничего единичного в себе не содержала бы. То, что лично, уже несоставимо из чего-нибудь другого, внеличного, не делится на него, не разрушается в него ни в пространстве, ни во времени. Поэтому нельзя и объяснить происхождение личности из каких-нибудь других, внеличностных элементов. Ведь если личность нуждается в объяснении и если мы привлекли какую-нибудь вещь для ее объяснения, это уже значит, что мы объяснили в ней только какой-нибудь один элемент, а для объяснения происхождения других ее элементов необходимо привлекать еще другие вещи; и так далее без конца. Но ведь такое причинно-генетическое объяснение личности окажется не чем иным, как дроблением личности на отдельные внеличностные элементы, то есть снятием самого вопроса о неповторимой и ни на что другое не сводимой единичности личного бытия. И если угодно объяснить происхождение личности так, чтобы все ее элементы были раз навсегда связаны один с другим и не нужно было бы объяснять происхождение каждого такого элемента в отдельности, то единственный способ представить себе происхождение личности в ее полной неделимости и в полной нерасторжимости составляющих ее элементов – это представить себе, что эта личность, во-первых, сотворена, во-вторых, мгновенно и, в-третьих, из ничего. Вот почему в библейском учении причинно-генетическое происхождение вещей заменено учением об их сотворении во мгновение ока и, главное, из ничего. Если до личности было что-нибудь и объяснить ее можно только из этих предшествующих ей вещей, значит, она делима, то есть каждый ее отдельный элемент имеет свое особое происхождение; а тогда, с библейской точки зрения, это уже не личность. Здесь не место развивать библейскую теологию в подробностях, нам важно только отмежевать библейскую монотеистическую, то есть абсолютно-личностную, эстетику от пантеистической в своей основе и вполне внеличностной эстетики язычества. А для этого сказано у нас уже достаточно.
Для грека красота есть прежде всего тело, то есть то, что произошло в результате материальных сил природы и общества. Это тело, конечно, тоже индивидуально и тоже есть нечто личное. Но в каком смысле личное? В том смысле, что безличные природные и общественные силы образовали собою или могут образовать собою прекрасную, то есть довлеющую себе самой и бескорыстно созерцаемую прекрасную индивидуальность. С этим библейская эстетика имеет очень мало общего. Тела здесь тоже созерцаются и они тоже сконструированы вполне личностно. Но не в этом заключается их последняя красота. Последняя красота всего личного с библейской точки зрения заключается вовсе не в телесности как таковой, но в ее сотворенности абсолютной личностью, в том, что она ни с чем не сравнима, а потому и нет ничего такого, из чего она могла бы причинно-генетически происходить. И во всех вещах, и во всех личностях, и во всем обществе, и во всей истории, и во всем космосе прекрасной является здесь только озаренность со стороны надмирного и абсолютно-личного начала, то есть только отражение во всем абсолютного лика Божия. Греки могли это понять только как учение об отражении их безличного первоединого во всех вещах. Тут они вполне сходились и с Библией и, вероятно, со всякой другой религией. Но находить везде и во всем только один и единственный, неповторимый и нерушимый лик Божий – этого никакой язычник-грек не мог себе и представить.
Мы не хотим сказать, что ознакомление греческих философов и эстетиков с Филоном ничего им не дало. Наоборот, греки здесь получили очень многое, а именно – они стали всерьез и чисто лично, а значит, и вполне интимно подходить к своему первоединому, которое раньше представлялось им только в виде абстрактного принципа. Тут-то как раз и возникла основа для появления античного четырехвекового неоплатонизма. Но до монотеизма дело не дошло. Неоплатоническая эстетика так и осталась в границах своего созерцания прекрасной индивидуальности (в вещах, в живых существах, в людях, в богах и демонах и во всем космосе), возникшей как результат материальных и вполне внеличностных сил природы и общества. В сравнении с досократиками внимание здесь перешло, конечно, по преимуществу к созерцанию идеальной сконструированности вещей, а не просто самих вещей. Но сущность дела от этого не пострадала. Неоплатоники ничему не научились ни в Библии, ни у Филона Александрийского.
6. Некоторые тексты из Филона
В заключение нам хотелось бы привести некоторые тексты из Филона, подтверждающие одновременное наличие у него как эстетики монотеистической, так и эстетики в результате толкования им Библии при помощи идей стоического платонизма. Тексты эти конкретизируют выставленную у нас выше положительную концепцию эстетики у Филона.
В трактате "О провидении" Филон рассуждает об изменяемости мира как в отдельных его частях, так и в целом, и при этом замечает, что нельзя признавать материю принципом, совечным Богу, поскольку это нечестиво (De provid. l 7). Вместе с тем Филон утверждает, что учение о тварности мира было уже у Платона, а ранее Платона об этом же учил Моисей (20-23; ср. De opif. m. 25), то есть фактически отказывается признать творение из ничего и приписывает тот же взгляд Моисею. Но в то же время Филон постепенно выдвигает здесь один существенный момент.
В трактате "О творении мира" Филон, излагая историю творения мира, подчеркивает, что хотя в Библии и говорится о творении мира в шесть дней, но на самом деле здесь не имеется в виду творение во времени. О шести днях говорится просто как о числе 6. Мир же был сотворен вне времени, так что никакого генетического объяснения для появления мира дать нельзя (De opif. m. 13-15).
Эта мысль о внезапном появлении твари встречается у Филона не раз. Так, в том же трактате человек появляется перед сотворенными "ранее" животными внезапно (83-86). Внезапным является и познание божества. Об этом целое рассуждение в трактате "О бегстве и нахождении". Среди различных видов нахождения – нахождение теми, которые не ищут. А таковы – мудрые, достигающие совершенства не благодаря труду и научению, но получающие его с неба. При этом мудрые рождаются вне времени, и они не нуждаются в нем (De fuga et invent. 166-176). Вне времени и вне всего смертного – добродетель. Она рождается непосредственно от бога, тотчас, без промедления (De mut. nom. 141-144). Как мудрость, так и добродетель не мыслима у их обладателей без сознания ничтожества перед Богом. Они не гордятся ни своей мудростью, ни добродетелью, но в радостном ожидании обращаются к Богу, предвкушая наслаждение от его внезапного благого дара (154-165).
Эта внезапная природа божественного творения, внезапная природа познания Бога, и внезапное овладение истинною добродетелью связаны с тем, что Бог, будучи творцом времени, сам находится вне времени. Он совершенно не изменяется и для него нет ни прошлого, ни будущего. Для вечного Бога все является настоящим, поэтому он не скован временной необходимостью (Quod deus sit immut. 20-32). Человек также, в отличие от всего сотворенного божеством, в отличие от животных и растений, не подчиняется закону необходимости. Его природа божественна, поскольку он наделен разумом и свободою воли. Человеческие поступки, таким образом, не могут быть объяснены простым стечением обстоятельств и чередованием причин и следствий. Но человек, по Филону, создан Богом так, что он сам выбирает между добром и злом (33-50).
Так диалектика творческого акта оказывается у Филона связанной с личностным пониманием творения, и хотя трансцендентность личного Бога здесь у Филона на первом плане, все же противоречия во взаимоотношениях между творцом и творением здесь не возникает ввиду непосредственного и личного характера этого взаимоотношения. Этот непосредственный и личный характер общения между Богом и человеком Филон подчеркивает в толковании Быт. 15, 12: "При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама; и вот напал на него ужас и мрак великий". Ужас, греческое extasis, означает здесь, по Филону, вдохновение; Авраам находился под невидимым воздействием Божиим и был охвачен даром пророчества, а непосредственный характер этого божественного воздействия подчеркивается словами "при захождении солнца", то есть, по толкованию Филона, без посредства ума (Quis rer. div. her. 249-266).
Но вместе с тем Филон постоянно оказывается вынужденным вводить и целый ряд последующих звеньев между творящим богом и его творением. Так, толкуя в трактате "О Боге." явление Аврааму Господа у дубравы Мамре (Быт. 18, 1-2), Филон понимает это место так: "Он возвел очи свои, и взглянул, и вот, три мужа стоят против него", означает, что Авраам увидел Сущего, то есть творца и деятельную причину мира и две силы его, то есть творческую – Бога и царственную – Господа. Эти силы-херувимы, то есть формы, по которым Бог создал мир и которые сообщают всему надлежащий порядок и устройство, поскольку Бог материю из небытия приводит в бытие.
В этом толковании наиболее ясно сталкиваются две тенденции у Филона, поскольку всякий раз, как у него заходит речь о посредниках между Богом и миром, Филон оказывается под влиянием греческих философских конструкций, что особенно видно из следующей его концепции. В трактате "О херувиме" Филон предлагает своего рода иерархию познавательных субстанций: Бог – душа – ум в душе – чувственный мир. Душа, непосредственно предстоящая божеству, изъята из круга рождения. Ум же, сначала будучи слепым, наполняется созерцанием чувственных вещей и воображает себя их собственником, в чем ему приходится разувериться. Так Филон толкует Быт. 4,1, слл.: Адам – ум; Ева – чувство; Каин – символ неразумия и т.п. Херувим же – символ благости и господства Божиих, а его оружие – огневидное и всепроникающее слово Божие. Или же Филон, разъясняя Исх. 16,3-4, говорит, что манна небесная – это божественный логос, который является. лишь с удалением страстей, питает души добродетельных, освобождая человека от зла (Leg. allegor. III 161-181). Но этот же логос у Филона понимается и совершенно иначе72.
Когда Филон противопоставляет друг другу Бога и творимый им мир, то мир понимается им как нечто изменчивое и никогда не равное самому себе. Бог же, напротив, оказывается неизменным (atrepton. De cherub. II 12), покоящимся (hestöta. Leg. allegor. I 266), нерожденным и неподвижным (agennёton atrepton te cai acineton, De somn. V 110), единым и единственным, несмешанной и простой природой (ho theos monos esti cai hen, oy sugcrima, physis haplё. Leg. allegor. I 189). Бог лишен качества (apoion. Leg. allegor. I 142), он не смешанная ни с чем монада (acratos monas. Quod deus sit immut. II 424).
Ясно, что так характеризуемое божество уже не может вступать ни в какие интимные отношения с созданными им людьми, так как оно само ровно ничего общего с человеком не имеет. Поэтому Филон и утверждает, что если в Писании и говорится о Боге как об отце, воспитывающем своих детей, то это сказано только для назидания и вразумления (II 412), на самом же деле Бог выше и любви, и блага, и красоты, совершеннее, чем добродетель, прекраснее, чем красота (Legat, ad Caium 992 С; ср. De opif. m. I 6). Такой Бог может быть познан только в порядке постепенного восхождения от чувства к уму, но и тогда мы познаем не само Божество, но только обнаружим самый факт его существования (оус hoios esti all' hoti esti, De praem. et poen. 916 В – 917 A). Поэтому у Бога, собственно говоря, нет имени, но его можно назвать только сущим (to on, ho ön; евр. Иегова), как он и сам называет себя Моисею (De poster. С. II 342).
Поэтому, ввиду такого рода абстрактно-философской характеристики Бога, Филон уже не может непосредственно произвести от его мира, но нуждается во введении посредствующих сил, или логосов, с помощью которых он и производит из материи мир, сам уже не имея непосредственного отношения к творению (оус ephaptomenos aytos... alla tais asömatois dynameisin catechrёsato. De vict. offer. 857 E – 858 A). Божественные силы и логосы, представленные в виде единого Логоса, являются промежуточным звеном между неизменным сущим и изменяемым миром, и, в конце концов, Логос и принимает на себя функции Божества, становясь как бы идеальным планом творения (archetypos idea, idea ideön, cosmos noёtos. De opif. m. I 14; De somn. V 132; De vict. offer. 836 E; De spec. leg. 789 E) и тем законом, который управляет сотворенным миром (aidios tön holön nomos. De plant. III 90). Но, оказываясь законом природы, божественное слово понимается уже и как Судьба (heimarmene cai anagcё. Quis rer. div. her. IV 34) и, таким образом, обожествляет и природу, так что уже природа во всех своих случайных (роковых) проявлениях оказывается наделенной свойствами самого Божества. В самом деле, природа является нерожденного, неизменною, нестареющей и бессмертной (agennёtos, en homoiöi menoysa, ageraös cai athanatos. De sacrif. Ab. et C. II 124-126, причем в первой главе этого трактата так же характеризуется и Бог). Поэтому в конце концов жить по Богу и жить по природе оказывается у Филона одним и тем же, и от библейского монотеизма мы переходим здесь к стоическому пантеизму.
Таким образом, выставленная у нас с самого начала двойственность эстетики Филона, библейской, или монотеистической, и языческой, или в данном случае стоически-платонической, после детального изучения текстов Филона только подтверждается.
В заключение этого раздела необходимо сказать, что, как ни велик вклад в античную эстетику, который сделан неопифагорейцами и Филоном Александрийским, все эти мыслители все же являются более или менее отдаленным предшествием неоплатонизма. Ведь они живут, мыслят на самом рубеже старой и новой эры. Чтобы подойти еще ближе к неоплатонизму, который оформился в III в. н.э. в творчестве Плотина, необходимо отдать себе отчет в том, чем же были заполнены первые два века нашей эры, то есть необходимо дать себе отчет в том, что было сделано непосредственными предшественниками неоплатонизма. Структурно-числовой универсализм неопифагорейцев и генологически-символический универсализм эстетики Филона Александрийского дополняются в первые два века нашей эры еще новыми, весьма существенными для неоплатонизма конструкциями. Этим, то есть платониками II в., мы сейчас и займемся.