 ОГЛАВЛЕHИЕ
ОГЛАВЛЕHИЕ  >>>
>>>
<<<  ОГЛАВЛЕHИЕ
ОГЛАВЛЕHИЕ  >>>
>>>
В психологии, пожалуй, нет другого столь же известного и столь же дискредитированного в XX в. метода исследования, как интроспекция1. Интроспективная психология XIX в., созданная В. Вундтом и его последователями, подверглась впоследствии уничтожающей критике. Разработанные школой В. Вундта модификации интроспективного метода были признаны несостоятельными. Но почему-то из этого был сделан вывод, что интроспекция как форма познания2 вообще неадекватна и неэффективна. Сам этот вывод еще более неадекватен. Объективная психология XX в. и ее вариант – бихевиоризм тоже оказались недостаточно эффективными, тем не менее это не стало поводом для отказа от объективного метода исследования как такового. Почему же большинство исследователей продолжают полагать, что следует отказаться от интроспекции? На основании чего следует забыть о том, что интроспекция эффективно использовалась лучшими умами человечества, по крайней мере на протяжении последних двух с половиной тысяч лет, что вся психическая феноменология была создана на основе интроспекции еще до появления экспериментальной психологии и сама психология как наука возникла в результате интроспекции?
У интроспекции ничуть не меньше заслуг и достижений в психологии, чем даже у экспериментальной объективной психологии, тем более что последняя базируется на интроспекции и была бы немыслима без интроспекции как исследуемых, так и самих исследователей, что я постараюсь показать ниже.
Ситуация с интроспекцией парадоксальна. С одной стороны, вроде бы очевидно, что сознание человека не может быть исследовано как физический объект. Г. И. Челпанов [1918, с. 145–152] отмечает, например, что физические явления одновременно могут быть доступны непосредственному наблюдению большого числа лиц, а психические явления доступны непосредственному наблюдению только того лица, которое их переживает. И о психических состояниях другого лица мы можем умозаключать только на основании того, что сами переживали. Э. Кассирер [1988, с. 7–8] указывает, что физические вещи можно описать в терминах их объективных свойств, но человека – только в терминах его сознания, что требует иных методов исследования. А. А. Гостев [2007, с. 170] подчеркивает, что без самонаблюдения невозможно исследование внутреннего мира человека. Д. Майерс (2001) пишет:
«Есть одна вещь по всей Вселенной, о которой мы знаем больше, чем могли бы узнать в результате наблюдения извне, – заметил К. С. Льюис [C. S. Leyis, 1969, p. 18 и 19]. – Эта вещь – мы сами. У нас есть, так сказать, внутренняя информация; мы в курсе дела» [с. 76].
Можно продолжать цитировать еще долго.
С другой стороны, вызывает удивление слишком уж яростная и эмоциональная критика, которой подвергается интроспекция, что заставляет думать о пристрастности критиков. Может быть, действительно дело не в недостатках интроспекции, а в научной позиции самих критиков, слабость которой лежит в основе их излишней эмоциональности. Как пишет С. Московичи (1998):
Предрассудки и бойкоты – не опираются ли они в основном на возвышенный и научный принцип? [С. 31.]
Нельзя не обратить внимание на то, что интроспекционизм был категорически отвергнут бихевиоризмом, причем вместе с сознанием, ментальными образами и прочими «психическими эпифеноменами». Правда, с тех пор бихевиоризм и сам себя дискредитировал, но его последователи по-прежнему весьма сильны и не спешат реанимировать то, с чем он весьма успешно боролся. Тем не менее Э. Кассирер (1988) пишет:
Можно критиковать чисто интроспективную позицию, считая ее недостаточной, но нельзя запретить или просто игнорировать ее. Без интроспекции, без непосредственного значения чувств, эмоций, восприятий, мыслей, ощущений мы вообще не могли бы определить сферу человеческой психологии. Приходится признать, однако, что, следуя этим путем, мы никогда не придем к познанию человеческой природы во всей ее широте. Интроспекция открывает нам лишь малую часть человеческой жизни, которая доступна индивидуальному опыту: она не в состоянии охватить все поле человеческих феноменов [с. 4].
Но у каждого метода своя сфера применения. У интроспекции она тоже есть, и весьма немалая. Недостатки классических вариантов интроспекции действительно серьезны. Г. Райл [1999, с. 167] относит к ним, например, невоспроизводимость результатов, зависимость их от взглядов исследователей, неконтролируемость условий эксперимента, невозможность использования «наивных испытуемых» и др. Главным недостатком вундтовско-титченеровской интроспекции является ошибочное убеждение исследователей в том, что она позволяет получать «истинное знание» о психике «непосредственно из первоисточника». Однако все эти недостатки стали приписывать впоследствии уже не конкретной методике конкретных авторов, а интроспекции в целом.
Вообще под интроспекцией в психологии до сих пор понимают почему-то лишь метод, разработанный В. Вундтом, применявшийся им и его последователями, тогда как понятие интроспекция имеет гораздо более широкое содержание. Интроспекция существовала задолго до В. Вундта. Еще Р. Декарт обосновал ее как особую форму познания. Ф. Брентано использовал метод «внутреннего наблюдения». После В. Вундта «метод систематического экспериментального наблюдения» активно использовала Вюрцбургская школа психологии. Метод «феноменологического самонаблюдения» применяла гештальтпсихология. Современная психология, в частности гуманистическая и трансперсональная, тоже активно использует интроспекцию. Даже когнитивная психология не обходится, как мы увидим ниже, без интроспекции. Можно было бы добавить, что без интроспекции и психологии как таковой не было бы вовсе. Как отмечает Г. И. Челпанов [1918, с. 8–10], объективное наблюдение психических процессов может осуществляться только благодаря самонаблюдению3 и его результаты становятся для нас понятными только в том случае, если мы переведем их в понятия, известные нам из нашего самонаблюдения.
Тем не менее противниками интроспекции вместо отказа от интроспективных методик В. Вундта и Э. Титченера была дискредитирована интроспекция в целом. Следует все-таки понимать, что есть Интроспекция и есть интроспекция. Первая – единственный метод непосредственного изучения сознания. Вторая – лишь конкретная методика психологического исследования, отвергнутая в процессе развития психологии. И интроспекция Вундта – Титченера – это отнюдь не Интроспекция вообще. Первая относится ко второй, как наблюдение вообще относится к конкретной методике наблюдения, разработанной конкретными исследователями.
Невозможно, да и бессмысленно противопоставлять интроспективный и объективный психологические методы исследования, они просто должны дополнять друг друга. Складывается впечатление, что интроспекция почти 100 лет назад была просто дискредитирована доминировавшим в психологии бихевиоризмом за конкретную ошибку конкретных исследователей, и до сих пор никто из психологов не пытается даже разобраться в обоснованности ее дискредитации. Можно согласиться с тем, что интроспекция дает меньше, чем хотелось бы исследователям, но это не столько проблема интроспекции, сколько проблема отсутствия адекватных методик ее применения.
Оказалось, что разработанных В. Вундтом правил явно недостаточно. А. Боно (2006) пишет:
Вундтовская версия этого метода (интроспекции. – Авт.) хотя и выглядела вполне научной в том смысле, что имела форму контролируемого лабораторного эксперимента, была лишена того, что в наше время считается существенным признаком науки, а именно – объективности. В науке у ученых должна быть возможность достичь согласия по поводу их основных наблюдений. А в интроспективном методе Вундта объектом наблюдения или интерпретации было содержание индивидуального сознательного опыта наблюдателей, обученных давать аналитические интерпретации своему опыту; то есть этот метод был, безусловно, субъективной процедурой. По-видимому, программа Вундта разбилась именно об эту субъективность… [с. 673].
В дальнейшем методики психологических экспериментов изменились и от наблюдателя перестали ожидать интерпретаций, он должен был просто ответить на поставленный экспериментатором вопрос, а затем, например, просто нажать кнопку или дать другую реакцию, тем самым сообщая экспериментатору о появлении психического феномена или его изменении. А. Боно [2006, с. 673] сообщает, что этого простого изменения методики оказалось достаточно для того, чтобы придать объективность большому количеству исследований после В. Вундта.
Почему была отброшена интроспекция в целом? Думаю, по двум причинам. На тот момент вундтовский интроспекционизм отождествлялся с центральным направлением существующей научной психологии, которая только что выделилась в самостоятельную науку во многом благодаря именно В. Вундту и была основным конкурентом бихевиоризма. Главное же – в идеологической неприемлемости интроспекционизма для бихевиоризма, который тогда претендовал на господствующее положение в психологии. Эта идеологическая неприемлемость заключалась в интроспективном наблюдении психических сущностей, которые для бихевиоризма не существовали вовсе.
В последующие десятилетия бихевиоризм сменился «объективной» психологией и когнитивизмом, для которых интроспекция по-прежнему оставалась неприемлемой в силу своей субъективности. При этом никого из ее критиков не смущает тот факт, что сам предмет исследования «объективной» психологии по природе своей недоступен никому, кроме субъекта, обладающего сознанием, что он – субъективен. Для преодоления данного «неудобства» критиками интроспекции предлагались разные пути: от объективизации интроспективных самоотчетов испытуемых до замены объекта исследования. Так, обсуждая работу Л. С. Выготского, Е. Е. Соколова (2005), например, пишет:
Во-первых, мы можем получить более объективные сведения о себе, не «вживаясь» в свои внутренние переживания, как это рекомендовали психологи-интроспекционисты, а наблюдая за своим поведением в объективных жизненных ситуациях. Никакая интроспекция не даст субъекту сведения о том, «храбр ли он», – только реальное участие в соответствующих событиях (например, в бою) покажет человеку, может ли он считать себя храбрым. Во-вторых, мы можем использовать данные самоотчета испытуемого о своих переживаниях (что он чувствовал, например, при предъявлении ему той или иной картинки), но как сырой материал, требующий толкования и оценки [с. 121].
Очевидно, что речь здесь идет о «наблюдении за поведением», то есть о бихевиоризме4. Что же касается интроспекции, то она и не должна давать субъекту «сведений о том, храбр ли он», так как «храбрость», как и всякая черта характера вообще, лишь с очень серьезными возражениями и весьма условно может быть отнесена к сфере психического. Это внешняя характеристика поведения, но об этом мы поговорим подробнее ниже. Интроспекция же занимается и должна заниматься исключительно психическими явлениями, к которым не относятся, например, черты личности. Автор продолжает:
Психическая деятельность не дана нам непосредственно, как объект научного изучения – ее необходимо реконструировать, изучая отдельные ее проявления (явления) в речевых и поведенческих реакциях [с. 121].
Действительно, можно сказать, что «психическая деятельность» нам не дана непосредственно, так как данное понятие репрезентирует некую сложную гипотетическую сущность. В своем сознании мы имеем лишь психические явления, которые и даны нам непосредственно. Вот их-то и должна изучать интроспекция. Автор предлагает «использовать данные самоотчета испытуемого, но лишь как сырой материал», что, впрочем, уже давно, повсеместно и активно делается всей современной «объективной» психологией. Возникает вопрос: почему можно рассматривать данные самоотчета одного человека – испытуемого и нельзя рассматривать данные самонаблюдения другого человека – психолога, если ни в первом, ни во втором случае мы не будем принимать в расчет личное мнение испытуемых?
Многие сторонники интроспекции действительно дали оппонентам очень серьезный повод для критики не только их личной позиции, но и интроспекции в целом тем, что утверждали, будто интроспекция способна давать нам «самые точные и бесспорные» «знания из первоисточника». Справедливо критикуя такую позицию, Ж.-Ф. Лиотар (2001) пишет:
Интроспекция как общий метод психологии, во-первых, полагала аксиому: переживание в сознании конституирует посредством себя самого знание сознания. Если я ужасаюсь, то я, следовательно, знаю то, что есть страх, поскольку я боюсь. Эта аксиома предполагала, в свою очередь, полную прозрачность событий сознания для взгляда сознания, а также то, что факты сознания суть сознательные факты. Другими словами, переживание дается непосредственным образом вместе со своим смыслом, когда сознание направлено на него. …Феноменология находится в полном согласии с объективизмом в критике некоторых положений интроспекционистов. То, что смысл содержания сознания непосредственно проявляется и постигается как таковой, опровергается самим психологическим проектом: если мы доказываем необходимость психологической науки, то это происходит потому, что мы знаем, что мы не знаем, что такое психическое. И правда, когда я ужасаюсь, тогда я боюсь, но я не знаю тем не менее, что такое страх, я «знаю» только, что я боюсь: можно оценить дистанцию между этими двумя видами знания. В действительности «познание себя самим собой является косвенным, оно есть конструкция, и мне нужно расшифровывать мое поведение, как я расшифровываю поведение других» (Merleau-Ponty…) [с. 60–62].
И автор, безусловно, прав. Интроспекция – не более чем наблюдение, пусть и внутреннее, или самонаблюдение. Как и любое наблюдение, оно далеко не всегда дает нам возможность проникнуть в суть наблюдаемого предмета или явления, но оно и должно давать нам лишь материал для познания, а не какое-то «истинное знание». В любом случае интроспекция – отнюдь не некий абсолютный метод познания фактов, которые якобы «наблюдаются вместе со своим смыслом», а лишь метод наблюдения.
Б. М. Теплов [2005, с. 156] пишет, что люди осуществляют самонаблюдение в течение десятков тысяч лет и пределы тех единиц, на которые самонаблюдение может разложить психическую деятельность, давно уже обнаружились. Это утверждение, однако, весьма спорно, так как представления людей о мире, о самих себе и своей психике непрерывно и сильно меняются, особенно в последние два века. И то, что, например, мог бы обнаружить в процессе интроспекции современный исследователь, учитывая иной уровень психологических знаний, не могли обнаружить даже В. Вундт или Э. Титченер.
Б. М. Теплов (2005) справедливо утверждает, что, если человека посадят в лабораторию, дадут ему инструкцию и будут записывать его самонаблюдения, острота и глубина его внутреннего зрения не изменятся. Поэтому психолог-интроспекционист подобен физику, который посадил бы человека в специальную комнату и дал ему инструкцию внимательно «рассмотреть» атомное строение тела. Ни простым, ни внутренним глазом нельзя увидеть ни атомное строение тела, ни механизм психических процессов. Подобные попытки – пустая трата времени. Все это, безусловно, еще раз подтверждает, что проблема – в правильной постановке задач и организации исследования при понимании возможностей метода. Просто не следует предлагать испытуемым изучать механизмы их мышления. Надо ставить более адекватные и гораздо более простые задачи. Например, предложить ответить на вопрос: может ли и в каком виде испытуемый представить себе яблоко, только что предъявленное ему на 5 секунд? Такая интроспекция и лежит сейчас в основе большинства современных психологических экспериментов, которые считаются «объективными». В этой связи интересно замечание А. А. Шевцова (2004):
…давно забытая и выкинутая у нас психология самонаблюдения, оказывается, не только тайком от наших психологов возрождена на… Западе, но еще и сделала успехи за последнее время!.. Самонаблюдение снова востребовано, поскольку возрождается наука о сознании! [С. 778.]
Кстати, даже многие физические открытия были результатом не физического эксперимента, а простого наблюдения. Большинство физических теорий тоже были выстроены в результате размышлений исследователей и лишь потом проверялись экспериментально. Сама экспериментальная психология не смогла бы развиваться без интроспекции и самоотчетов как испытуемых, так и исследователей. Очень большое число так называемых объективных психологических экспериментов представляют собой как раз помещение испытуемого «в лабораторию, где ему дают инструкцию и записывают результаты его самонаблюдения». И в этом случае не требуется какой-либо особой остроты или глубины «внутреннего зрения».
Б. М. Теплов [2005, с. 158] говорит о существовании распространенного предрассудка, согласно которому всякое знание о себе и своей психике человек якобы получает лишь интроспективно. Тогда как в действительности наиболее важные знания о себе человек получает опосредованно, теми же способами, которые доступны и другим людям. С автором можно согласиться, потому что интроспекция – это всего лишь наблюдение, «внутреннее рассмотрение» возникающих в сознании собственных психических явлений. Выводы, которые делает человек из такого рассмотрения, совершенно не обязательно правильные и тем более бесспорные. Они не являются «истинным знанием». Интроспекция не должна, да и не может «поставлять» нам какие-либо «готовые выводы». Как и всякое наблюдение, она может лишь предоставлять нам факты о психических явлениях, на основании которых исследователи могут уже затем делать те или иные выводы для последующей их проверки. Интроспекция же – лишь единственно возможный способ непосредственного рассмотрения субъективного психического содержания – психических феноменов сознания и не более того.
Она достаточно ограниченна в своих возможностях, поэтому представляется, например, верным высказывание Б. М. Теплова о том, что нельзя с помощью интроспекции установить возможности своей памяти. В то же время никак, кроме интроспекции, невозможно установить, возникает ли определенный образ воспоминания в сознании испытуемого или нет. Б. М. Теплов [2005, с. 159], на мой взгляд, прав и в том, что интроспекция не является средством определения собственных знаний, умений и навыков, особенностей своей личности: темперамента, характера и способностей. Это так, потому что все перечисленное не относится к возникающим в сознании человека психическим феноменам, которые лишь и могут быть предметом интроспекции.
Как это ни странно и даже удивительно, но среди исследователей весьма широко распространено убеждение в том, что мы не способны к интроспекции. Г. Райл (1999), например, вообще сомневается в том, что человеку доступен «акт внутреннего восприятия», так как в этом случае его внимание должно быть направлено на две вещи:
…многие из тех, кто готов поверить, что действительно может заниматься… интроспекцией, пожалуй, усомнятся в этом, когда убедятся, что для этого они должны будут концентрировать свое внимание одновременно на двух процессах. Они скорее сохранят уверенность в том, что не концентрируют внимание одновременно на двух процессах, чем в том, что способны заниматься интроспекцией [с. 166–167].
Дж. Серл (2002) говорит примерно о том же:
Сам факт субъективности… делает подобное (интроспективное. – Авт.) наблюдение невозможным. Почему? Потому что там, где это касается сознательной субъективности, не существует различия между наблюдением и наблюдаемой вещью, между восприятием и воспринимаемым объектом. Модель зрительного восприятия работает на основе предпосылки, что имеется различие между видимой вещью и видением ее. Но для интроспекции просто невозможно осуществлять подобное разделение. Любая присущая мне интроспекция моего собственного сознательного состояния сама есть это сознательное состояние. …Стандартная модель наблюдения не работает по отношению к сознательной субъективности… В силу этого сама идея того, что мог бы быть особый метод исследования сознания, а именно «интроспекция», которая, как полагают, есть нечто вроде внутреннего наблюдения, была изначально обречена на неудачу, и потому нет ничего удивительного в том, что интроспективная психология потерпела банкротство [с. 105].
Тем не менее для интроспекции совершенно не требуется «осуществлять разделение» «видимой вещи и ее видения», которого, кстати, никогда и не происходит при нормальном восприятии. Это «разделение» привнесено позже самими исследователями, изучавшими восприятие. То, что «стандартная модель наблюдения не работает по отношению к сознательной субъективности», для интроспекции совершенно неважно, так как сама эта «стандартная модель» никакой реальной роли не играет даже в восприятии. Она сама – всего лишь конструкт исследователей. И образ восприятия, и образ представления объекта – это явления сознания. И для их интроспекции несущественно, что именно они репрезентируют: воспринимаемый в данный момент внешний объект, существовавший когда-то объект или вовсе объект, сконструированный сознанием. Соответственно, для нас неважно, где находится причина, вызвавшая появление в нашем сознании репрезентации – психического феномена: вовне (как в случае образа восприятия) или внутри (как в случае образа представления или даже истинной галлюцинации).
В нашем сознании вообще нет никакой двойственности вещи и ее видения. В нем есть лишь образ восприятия, или образ представления вещи, или, наконец, понятие вещи. И именно эти психические феномены подвергаются рефлексии в процессе интроспекции. Причем подвергаются рефлексии почти непрерывно. Если бы это было не так, то мы ежеминутно с удивлением обнаруживали бы, что почему-то именно сейчас надеваем ботинки, наливаем в чашку чай, зачем-то вышли из дома и т. д. и т. п. На этот факт обратил внимание еще И. Кант [1994, с. 503].
Обсуждая интроспекцию, Б. М. Теплов (2005), однако, пишет:
…учение о субъективном методе в психологии покоится на вере в то, что у человека имеется специальное орудие для непосредственного познания своей психики (внутреннее восприятие, или интроспекция)… Глубоко прав был Сеченов, заявивший в полемике с К. Д. Кавелиным, что «особого психического зрения как специального орудия для исследований психических процессов, в противоположность материальным, нет»… [с. 154–155].
Е. Е. Соколова (2005) тоже утверждает, что:
…одним из существеннейших недостатков метода интроспекции является невозможность одновременно переживать что-то и наблюдать за этим переживанием – всегда есть риск своим наблюдением за переживанием разрушить его [с. 117].
Возникает вопрос: чем наше самонаблюдение, или интроспекция, отличается от нашего же наблюдения за окружающим миром с точки зрения протекающих в нашем сознании процессов?
Нельзя не признать, что и то и другое – варианты наблюдения. Меняется лишь объект наблюдения. Наблюдая за окружающим, а следовательно, и переживая его репрезентации в своем сознании, так как никак иначе мы не могли бы за окружающим наблюдать, мы одновременно анализируем репрезентируемое или, говоря иначе, «наблюдаем» за этими репрезентациями и рефлексируем их. Тем самым, если следовать логике Е. Е. Соколовой, мы непрерывно воздействуем на эти свои репрезентации и рискуем разрушить их. Несмотря на это, мы вполне успешно данным обстоятельством пренебрегаем в своей жизни. По крайней мере, это не мешает нам адекватно воспринимать и осмысливать окружающий нас мир и достаточно успешно адаптироваться к нему. Почему же в случае рефлексии наших образов воспоминания и представления, например, мы должны придавать данному обстоятельству какое-то иное, особое значение?
Раз мы легко можем одновременно осмысливать образы восприятия окружающего мира и обдумывать все связанное с ними, пусть и рассматривая эти психические феномены в плоскости мира физического, то я лично не вижу, что может помешать нам делать то же самое, то есть рассматривать психическое содержание своего сознания и в иной плоскости – плоскости психических явлений. Другими словами, мы способны одновременно без труда и переживать, и осмысливать представляемые и вспоминаемые образы окружающего, то есть заниматься интроспекцией.
Психику можно представить как несколько одновременно протекающих в разных плоскостях (или воспринимаемых при интроспекции как протекающие одновременно) процессов. Интроспекция свидетельствует, например, что в сознании одновременно сосуществует и поток визуальных образов восприятия (одна плоскость), и поток образов воспоминания и представления (другая плоскость), и поток слуховых образов восприятия (третья плоскость, по крайней мере иная модальность первой плоскости), и функционирующий параллельно вербальный мысленный «телетайп» (как я его называю), в вербальных конструкциях которого представлены в том числе наши мнения и выводы по поводу переживаемых чувственных образов, а также мнения и выводы по поводу вербальных конструкций, которые только что или чуть раньше возникали в сознании (четвертая плоскость или иная модальность плоскости второй). В данном обсуждении пока неважно, действительно ли все они протекают параллельно, или просто перечисленные психические явления быстро сменяют друг друга, создавая субъективное ощущение одновременности их наличия.
Сознание непрерывно подвергает ревизии собственное содержание, в том числе то, которое моделирует само это содержание. Сознание устроено так, что любое присутствующее в нем ощущение или образ всегда противопоставляются, как бы «демонстрируются» в большей или меньшей степени нашему внутреннему «Я». В процессе рефлексии психическое содержание: образы, эмоции, желания, ощущения – обычно подвергается рассмотрению со стороны некой нашей внутренней сущности, нашего «Я».
Несмотря на странность фразы «рефлексия (или внутреннее рассмотрение) образа восприятия», именно она правильно отражает сущность наших субъективных переживаний в тот момент, когда мы рефлексируем, например содержание собственного восприятия. Мы действительно в состоянии субъективно и непосредственно чувственно, а не вербально различать в своем сознании некую воспринимающую, наблюдающую сущность – «Я» и собственные психические явления (в том числе образы и ощущения в качестве того, что доступно наблюдению этой сущности).
Критикуя интроспекцию, Г. Райл (1999) пишет:
Теоретики спорят, например, существуют ли действия сознания, отличные от интеллектуальных и одновременно от выполняемых привычным и ритуальным способом? А почему бы не посмотреть и не увидеть это интроспективно? Если же сторонники этих теорий так поступают, то почему их отчеты о подобных наблюдениях противоречат друг другу? Далее, многие теоретики, рассуждавшие о человеческом поведении, заявляли, что существуют некоторые процессы, sui generis, отвечающие определению «воления». Я же доказывал, что таких процессов нет. Почему же мы спорим об их существовании, коль этот вопрос мог бы разрешиться так же легко, как вопрос о том, пахнет ли в кладовке луком? [С. 167.]
Можно ответить вопросом на вопрос: почему нам никак не удается, например, сопоставить теории сознания в рамках восточной и западной философии? И вообще, почему они радикально отличаются друг от друга?
Лишь потому, что сложность проблемы необычайна. Наше сознание – не «кладовка с луком» и даже не самая сложная ЭВМ. Исследователи не могут договориться даже о едином понимании проблем квантовой физики, хотя она «объективна». Как же им договориться об абсолютно субъективных проблемах собственного сознания? Мне, например, сложно понять, что Г. Райл (1999, см. выше) имеет в виду, когда говорит о «действиях сознания, отличных от интеллектуальных и одновременно от выполняемых привычным и ритуальным способом». Как же мы с ним сможем «посмотреть и увидеть», если каждый видит свою модель или не видит даже ее? Как могут «их (исследователей) отчеты о наблюдениях не противоречить друг другу», если до сих пор в психологии нет единого понимания самых элементарных, казалось бы, базовых вещей – того, что такое ощущения и образы, не говоря уже, например, о том, что такое сознание или личность?
Следовательно, проблема не в интроспекции, а в методике исследования и теоретических подходах к построению интроспективного эксперимента. Необходимы стандартные, воспроизводимые процедуры, понятные всем задачи и простые цели исследования, исключающие трактовку испытуемым наблюдаемых им в процессе интроспекции явлений, исключающие его самоанализ, его собственные оценки и мнения, но для этого надо отказаться прежде от предвзятого подхода к интроспекции.
Г. Райл [1999, с. 168] напоминает возражение против возможностей интроспекции, выдвинутое еще Д. Юмом. Оно заключается в том, что есть состояния сознания, которые человек не может хладнокровно интроспективно изучать. Это состояния паники, ярости, буйного веселья, сильного возбуждения и т. п. Правильно. Их и не надо изучать с помощью интроспекции. Здесь можно только предложить в качестве контраргумента рассмотреть адекватность результатов физических экспериментов, если бы исследователи проводили их, пребывая в тех самых «исключающих возможность быть хладнокровным» состояниях. Очевидно, что в таких экспериментах вряд ли были бы получены достоверные результаты. Кроме того, надо сказать, что интроспекция не должна предназначаться для того, чтобы что-то «изучал» испытуемый. Изучать результаты интроспекции даже самих исследователей должны и другие исследователи. И результаты эти не могут быть ничем, кроме фактов самонаблюдения в форме: возникли, исчезли или изменились так-то образ, ощущение, состояние и др. Сам исследователь может лишь фиксировать наличие и изменение феноменов своего сознания. Следовательно, дело опять же не в пороках интроспекции, а в методике проведения интроспективных исследований.
Отрицая интроспекцию, Г. Райл (1999) тем не менее готов использовать данные ретроспекции, которые представляются ему более адекватными:
…частью того, что имеют в виду, говоря об интроспекции, является аутентичный процесс ретроспекции. Но в объектах ретроспекции нет ничего специфически призрачного. …Я могу припомнить, как я что-то видел и как я что-то воображал; мои внешние действия, равно как и мои ощущения. …Ретроспекция несет на себе часть бремени, тяжесть которого пытались возложить на интроспекцию. Но она не может взять на себя все это бремя, особенно самую его философски драгоценную и хрупкую часть. …Сколь бы тщательно я ни припоминал свое действие или ощущение, я все же могу ошибаться относительно его природы. Были ли вчерашние переживания, о которых я сегодня вспоминаю, подлинным сопереживанием или угрызением совести, это не станет для меня яснее от того факта, что они сохранились в моей памяти как живые. Хроники не объясняют то, память о чем они сохраняют. Автобиографичность ретроспекции не означает, что она дает нам Привилегированный Доступ к особого рода фактам. Однако она действительно дает нам массу данных, способствующих пониманию нашего поведения и характеристик сознания [с. 168–169].
При этом Г. Райла не смущает тот факт, что сама по себе ретроспекция – это в гораздо большей степени, чем интроспекция, воссоздание, а не отчет о реально пережитых психических феноменах.
С неожиданной позиции защищает интроспекцию Б. Рассел [2007, с. 232], критикуя взгляды одного из основоположников бихевиоризма Дж. Уотсона. Он пишет, что аргументы противников интроспекции покоятся на двух основаниях. Первое заключается в том, что данные интроспекции являются приватными и верифицируемы только одним наблюдателем, а стало быть, не могут обладать той степенью публичной достоверности, которой требует объективная наука. Второе состоит в том, что физическая наука конструирует пространственно-временной космос, подчиняясь определенным законам, и то, что в мире существуют вещи, не подчиняющиеся этим законам, вызывает у объективистов раздражение. Б. Рассел замечает, что «приватный характер» данных – слабое возражение против данных интроспекции, так как все наши телесные ощущения носят приватный характер. Например, зубная боль. При этом никто не рассматривает знание нашего собственного тела как научно ничтожное, хотя оно приобретается лишь с помощью приватных данных.
Мне представляется, что аргумент Б. Рассела об уникальности телесных ощущений наносит смертельный удар по теории, отрицающей значимость интроспекции. Надо напомнить хотя бы то «несущественное» обстоятельство, что вся медицина построена в первую очередь на интроспекции больного. Сам ее предмет – человек, страдающий заболеванием, – «больной» – тот, который испытывает субъективное ощущение – боль. Следовательно, вся медицинская наука и практика основываются на чем-то, с объективистской точки зрения, «незначимом», «необъективном», «ненаучном». Однако, несмотря на «ненаучность» и «необъективность» интроспекции, наше существование в мире во многом зависит именно от нее, так как только она позволяет нам вовремя обратить внимание на свои внутренние проблемы и обратиться за помощью.
Б. Рассел [2007, с. 233–234] полагает, что данные интроспекции должны рассматриваться как не подчиняющиеся законам физики, и именно это является фундаментальной причиной попыток их отвергнуть. Он указывает на то, что даже часть наших ощущений, которые мы привыкли считать репрезентациями физической реальности, относится к области интроспекции. Так, данные зрения и слуха более публичны, запах – в некоторой степени менее, прикосновение – еще менее, висцеральные или внутренние ощущения непубличны вообще. Он обращает внимание на важность совпадения одинаковых ощущений у людей в одно и то же время. Если человек слышит удар грома вместе с кем-то, это – «объективный» факт. Если же он слышит удар грома, который никто больше не слышит, то думает, что сошел с ума. При этом, если он чувствует боль в животе, то у него нет повода для удивления, даже если ее никто больше не чувствует, поэтому мы говорим, что боль в животе моя, и она – субъективна, тогда как гром – объективен. Это лишний раз подтверждает условность разделения психических переживаний на «объективные» и «субъективные».
В. М. Розин (2005) пишет:
Они (интроспекционисты. – Авт.) не соблюдали также один из основных принципов естественно-научного изучения – требование объективности, то есть контроля за тем, чтобы само изучение не влияло на поведение объекта: исследователь в естественной науке выступает только как носитель научных процедур (таких как измерение, моделирование, идеализация и т. д.). …Соединение в одном лице исследователя и изучаемого объекта (то есть сознания экспериментатора и испытуемого), а также специализация в интроспекции означали, что исследователь не только влияет на изучаемый объект – он его целенаправленно формирует [с. 54–55].
Но это требование невозможно соблюсти даже в самых «чистых» «объективных» физических экспериментах. Это тот самый принцип влияния наблюдателя на результаты эксперимента, который не смогли удалить из своих опытов в ХХ в. даже физики.
В чем разница между внешним наблюдением и внутренним наблюдением – интроспекцией? Она заключается лишь в том, что в первом случае доступ к наблюдаемой сущности открыт многим субъектам. Во втором случае он открыт только одному. В первом случае – это психическая репрезентация чего-то внешнего по отношению к субъекту. Во втором – внутреннего. Но и в том и в другом случае предметом сознательного рассмотрения являются субъективные психические репрезентации наблюдателя, поэтому в случае «объективного» внешнего наблюдения мы имеем в результате несколько субъективных самоотчетов, а в случае «субъективного» внутреннего наблюдения – один субъективный самоотчет.
Бихевиоризм, успешно справившийся с интроспекцией, сам через несколько десятилетий разделил ее судьбу. Тем не менее, как и в случае с интроспекцией, заявления исследователей о том, что он преодолен и остался в прошлом, – не более чем декларация. Его влияние сохраняется, и он по-прежнему определяет, хотя и не столь однозначно, как раньше, взгляды очень многих исследователей.
Для человека наиболее очевидно и достоверно то, что явлено ему в его сознании. Об этом уже не один век говорят выдающиеся философы, поэтому удивляет упорное, достойное лучшего применения нежелание необихевиористов, которыми являются многие современные, в том числе когнитивные, психологи, принимать, например, в качестве очевидной данности факт наличия собственных психических явлений, в частности «ментальных образов». С помощью самых неожиданных приемов они пытаются заменить психические явления чем угодно: от «поведенческих реакций» и не вполне понятных, физиологически трактуемых5 «репрезентаций» до «структур нервной системы». При этом они убеждены, что действительно отказались от бихевиоризма.
У. Найссер (2005а), например, замечает:
Сегодня теория научения (бихевиоризм. – Авт.) почти полностью отброшена. …Даже лабораторная крыса обратилась против своих старых друзей… [с. 21–22].
Тем не менее сам У. Найссер придерживается необихевиористских взглядов. У российских психологов тоже существует неоправданное убеждение, что советская психология никогда не принимала бихевиоризм и всегда с ним боролась. Между тем великого русского физиолога И. П. Павлова можно с полным основанием считать одним из главных, если не главным, родоначальников бихевиоризма. Хотя об этом не принято говорить, потому что советская наука вообще и советская психология в частности официально не приняли бихевиоризм. Идеи И. П. Павлова, однако, много лет определяли развитие советской психологии и до сих пор оказывают на нее влияние. Если зарубежные бихевиористы просто отказались от изучения психических явлений, то советские психологи пошли «своим», но тоже «объективным» путем. Они объявили, что объектом психологической науки является человеческая деятельность. Что это, как не бихевиоризм в другом ракурсе? Причем и сегодня этот подход никто даже не пытается открыто ставить под сомнение.
В недавно опубликованном и наиболее авторитетном многотомном российском университетском учебнике по общей психологии, например, так определяется объект психологии:
Именно деятельность… является объектом психологической науки, то есть той реальностью, которая может и должна изучаться… психологами… Предметом же психологии… выступает ориентировочная функция различных форм (внешней и внутренней) этой деятельности, то есть психика [Е. Е. Соколова, 2005, с. 29]. …Психика и деятельность онтологически тождественны [там же, с. 188].
Другими словами, и объект, и предмет психологии – это человеческая деятельность, а психика – это «ориентировочная функция различных форм… этой деятельности». Я, например, вообще не в состоянии понять последнюю часть данной фразы, даже понимая значения составляющих ее понятий6.
Между тем предмет психологии почти полтора века назад определил еще один из ее основателей – У. Джеймс (2003):
Наиболее ясное представление о предмете психологии дает профессор Ледд: «Психология… есть описание и истолкование состояний сознания как таковых». Под состояниями сознания мы понимаем ощущения, желания, эмоции, процессы познания, суждения, решения и т. п. [с. 3].
В рассматриваемом руководстве предлагается иной подход:
…все феномены, изучаемые психологами разных школ, представляют собой многообразие форм существования, механизмов реализации и результатов человеческой деятельности [Е. Е. Соколова, 2005, с. 29].
Иными словами, и состояния сознания, и ощущения, и желания, и эмоции, и процессы познания, и суждения, и решения и др. – все это «формы, механизмы и результаты человеческой деятельности». Возможно, это и так, хотя еще никто этого не доказал, но предположим, что это так и есть. Что же тогда из этого следует?
Давайте вернемся к первоисточнику. Основоположник советской психологической теории деятельности А. Н. Леонтьев (1983а) пишет:
…советская психология, формируясь на марксистско-ленинской философской основе, выдвинула принципиально новый подход к психике и впервые внесла в психологию ряд важнейших категорий, которые нуждаются в дальнейшей разработке. Среди этих категорий важнейшее значение имеет категория деятельности [с. 136]. В теории марксизма решающе важное значение для психологии имеет учение о человеческой деятельности… Вводя понятие деятельности в теорию познания, Маркс придавал ему строго материалистический смысл… [с. 104–105].
Что же сам автор понимает под «категорией деятельности»?
Он поясняет:
…говоря о деятельности, мы разумеем, следуя марксистской традиции, предметную деятельность, основной и исходной формой которой является деятельность чувственная, непосредственно практическая. Что же касается внутренней, умственной деятельности, то она представляется дериватом внешней деятельности, и, как таковая, она сохраняет общую структуру внешней деятельности, порождая функцию психического отражения реальности [с. 244].
Даже если пропустить замечание автора о том, что функцией умственной деятельности является психическое отражение реальности, обращает на себя внимание другое его смелое, но совершенно бездоказательное утверждение – что умственная деятельность представляется дериватом (производным [Словарь иностранных слов, 1954, с. 215]) внешней деятельности. Гипотетическое предположение о трансформации внешней деятельности в умственную было широко распространено в середине XX в. Однако оно так и не было ничем подтверждено и постепенно забылось. Можно согласиться с тем, что внешняя и умственная деятельность как-то сложно связаны, но пока непонятно как.
В любом случае ситуация проясняется: психологии предлагается заняться изучением внешней «практической деятельности». А как ее можно изучать? Как показывает все та же практика и история психологии, делать это можно лишь путем изучения поведения людей. Что, впрочем, и делалось уже в психологии большую часть ХХ в. Но как называется изучение поведения людей?
А называется оно «бихевиоризм». Тогда, если российской психологии предлагают другой предмет для изучения, отличный от того, что изучала классическая психология, данный факт следует не менее ясно декларировать. Как и то обстоятельство, что в этом случае предполагается уже иная наука, а не та, которая была названа «психологией» ее основателями. Впрочем, эта иная наука тоже далеко не нова и хорошо всем нам знакома. П. Саугстад (2008), например, цитирует основоположника американского бихевиоризма Дж. Уотсона:
Почему бы нам не сделать важнейшей областью психологии предмет наших непосредственных наблюдений? Давайте ограничимся рассмотрением лишь тех явлений, которые мы можем наблюдать непосредственно, и сформулируем законы относительно этих явлений. Ну и что же мы можем наблюдать? Мы можем непосредственно наблюдать только поведение… [с. 348].
Обращаю внимание на последние слова Дж. Уотсона. Зарубежная психология и сегодня не отказалась от этого предмета. Он вполне достойный, и, безусловно, необходимо заниматься его изучением. Р. Л. Аткинсон, Р. С. Аткинсон, Э. Е. Смит и др. (2007) пишут:
Психологию можно определить как научное исследование поведения и психических процессов [с. 20].
А. Ребер (2001а) тоже указывает в своем толковом психологическом словаре, что психология:
…определяется по-разному: «как наука о психике», «наука о психической жизни», «наука о поведении» и т. д. [с. 148].
Большинство психологов даже считают бихевиоризм психологией или, по крайней мере, ее разделом. Хорошо, давайте это примем, но при этом и четко сформулируем, что «исследование поведения» называется еще «бихевиоризмом», который включает в себя не только радикальный бихевиоризм Дж. Уотсона или русский бихевиоризм И. П. Павлова [Большой толковый психологический словарь, 2001, с. 100], но и множество разновидностей умеренного бихевиоризма и необихевиоризма. Я отнюдь не хочу сказать, что бихевиоризм – это плохо. Наоборот. Это совершенно необходимое направление научных исследований. Однако следует его отличать от классической психологии и внятно об этом говорить.
Вернемся к российскому необихевиоризму, который называется «теорией деятельности». Е. Е. Соколова (2005) пишет:
А. Н. Леонтьев утверждал, что деятельность составляет субстанцию сознания… и психики в целом, добавим мы. Психика, таким образом, неотделима от деятельности как ее характеристика или функция (функциональный орган) [с. 188].
Кстати, сам А. Н. Леонтьев (1983а), будучи выдающимся психологом, прекрасно понимал, что его точка зрения на деятельность отнюдь не общепринята и весьма неоднозначна. Он замечает:
…введение так называемой категории деятельности в психологию ставит много вопросов, в том числе дискуссионных [с. 244].
А. Н. Леонтьев полагал, что:
…психологический анализ деятельности состоит… в том, чтобы ввести в психологию такие единицы анализа, которые несут в себе психическое отражение в его неотторжимости от порождающих его и им опосредуемых моментов человеческой деятельности. Эта защищаемая мною позиция требует, однако, перестройки всего концептуального аппарата психологии, которая в данной книге лишь намечена и в огромной степени представляется делом будущего [с. 100].
Перестройка эта, однако, так и не была осуществлена за прошедшие десятилетия ни в советской, ни в российской психологии и не будет никогда осуществлена не только потому, что не имеет больше практического смысла, но и потому, что она невозможна по сути. Я хорошо понимаю политическую целесообразность создания и разработки в советской психологии теории деятельности, «соответствующей учению марксизма», но теперь больше нет такой целесообразности. И поддерживают теорию деятельности по инерции лишь представители школы А. Н. Леонтьева.
Надо сказать, что зарубежные исследователи всегда скептически относились к советской психологической теории деятельности. Западная психология вообще не склонна придавать деятельности столь глобальное и определяющее значение, какое придавала ей советская психология. В основных зарубежных учебниках и руководствах по психологии даже не выделяется специальный раздел, посвященный деятельности. Понятие деятельность имеет в зарубежной психологии достаточно ясное и вполне определенное значение:
Деятельность. Родовой термин, применимый как синоним для обозначения действия, движения, поведения, мыслительного процесса, физиологических функций и т. д. Из-за большой обобщенности «деятельность» обычно употребляется вместе с определяющим прилагательным, например целенаправленная деятельность, спонтанная деятельность, деятельность, направленная на решение задач, и т. д. [Большой толковый психологический словарь, 2001, с. 232].
…Целенаправленное энергичное общение (как речевое, так и неречевое) человека с окружающим миром… [Большая психологическая энциклопедия, 2007, с. 134].
Теория деятельности А. Н. Леонтьева явно выходит за рамки психологии, превращаясь, скорее, уже в общефилософскую. Столь широко трактуемое, как в его работах, понятие деятельность, мы могли бы с полным основанием заменить понятием активность человеческого организма и отождествить психику уже не с деятельностью, а, например, с активностью организма, чтобы стала еще очевиднее неадекватность подобного расширения. Более того, если продолжить ту же логическую линию, психику можно даже отождествить и с жизнью вообще. И это отнюдь не мое вольное допущение. А. Н. Леонтьев (1983а), например, пишет:
…что такое человеческая жизнь? Это есть совокупность, точнее, система сменяющих друг друга деятельностей. …Деятельность есть молярная, неаддитивная единица жизни телесного, материального субъекта [с. 141].
И ниже:
Деятельность человека и составляет субстанцию его сознания [с. 185].
Но тогда, если жизнь – это деятельность, а деятельность составляет субстанцию сознания, то сама жизнь – субстанция сознания. Следовательно, если вы планируете изучать психику, вам стоит заняться изучением жизни. В общем правильно, но применительно к задачам психологии, вероятно, малопродуктивно.
В. П. Зинченко (1983), обсуждая вклад А. Н. Леонтьева в советскую психологию, совершенно справедливо замечает:
…деятельностная теория психики и сознания строится под знаком двух ведущих категорий – жизни и мира. Чтобы правильно понимать эту теорию, нужно все время помнить, в каком онтологическом пространстве она строится. Это пространство не физическое и не феноменальное, хотя оно связано с тем и другим, находясь как бы на их границах, это жизненный мир, материей которого является деятельность [с. 13].
Иными словами, теорию деятельности А. Н. Леонтьева скорее следует рассматривать как философскую, а не психологическую. В. В. Мацкевич (2001), рассматривая категорию деятельность в обсуждаемой нами мыслительной традиции, говорит, что это понятие с «максимальным логическим объемом», и продолжает:
Понятий с максимальным объемом и онтологической претензией на универсальность в истории философии встречается немало, это предикаты суждений типа: «Все есть Это». Все, что может быть включено в объем такого понятия, наделяется статусом действительного существования, и, наоборот, все, что не входит в объем данного понятия, признается недействительным и невозможным [с. 291].
Автор приводит примеры категорий, игравших в человеческом познании сходную роль: стихии (вода, огонь, воздух), специальные понятия (логос, апейрон, атомы и пустота, мышление и протяженность), категории природа, сознание и др. Все это лишь подтверждает мою мысль о том, что психологическая теория деятельности – это скорее попытка общефилософского подхода к пониманию психики, чем конкретная психологическая теория.
Нельзя также забывать о мощном идеологическом давлении, которое оказывала на советскую психологию марксистская философия. Так, спустя двадцать с лишним лет В. П. Зинченко (2004) пишет:
В советской психологии доминировало рассмотрение деятельности в качестве объяснительного принципа всей психологической жизни, что существенно ограничивало пространство психологической мысли… Необходимо преодолеть устоявшийся схематизм сознания психологов, что предметная деятельность, якобы лишенная модуса психического, погружаясь извне внутрь, рождает психику или становится психической [с. 137].
Автор определяет в этом контексте деятельность как:
…философскую и общенаучную категорию, универсальную и предельную абстракцию [с. 136].
Попытка предложить сегодняшней психологии заняться изучением деятельности не может на практике привести ни к чему, кроме изучения поведения, что есть движение назад.
Е. Е. Соколова (2005) продолжает:
Как было показано сторонниками деятельностного подхода к психологии (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин, Б. Б. Эльконин и др.), существование психических процессов в различных субъективных… формах представляет собой вторичное явление, тогда как исходным и основным способом их бытия является их объективное существование в различных формах предметно-практической деятельности субъекта (курсив мой. – Авт.) [с. 62].
Психика есть функция деятельности субъекта, а не его мозга как такового… [с. 306].
…Единственный путь изучения психики – изучение деятельности субъекта в ее особой (ориентировочной) функции [с. 191].
Итак, по мнению автора, существование психических процессов представляет собой вторичное явление. Можно было бы сказать проще и привычнее – так, как говорили радикальные бихевиористы, что психика – это эпифеномен. Очевидно, что данный подход представляет собой не что иное, как очередную разновидность необихевиоризма. При таком весьма специфическом понимании психики трудно ожидать, например, принятия интроспекции как метода ее исследования.
Но вернемся к психологии. Подвергать сомнению тот бесспорный факт, что деятельность – важнейшая часть жизни человека, естественно, бессмысленно. Но не менее бессмысленно абсолютизировать эту сферу, замещая ею психику человека вообще. Мне представляется более адекватным понимание деятельности как процесса активного взаимодействия человека с окружающим миром, при котором мир оказывает мощное влияние и на тело, и на психику человека. Человеческая психика, действительно, формируется и развивается в процессе деятельности и в ней проявляется. Неудивительно поэтому, что психологи и даже философы, например еще Т. Гоббс (1991), уделяли в прошлом и уделяют сейчас громадное внимание поведению человека. В то же время следует отдавать себе отчет в том, что деятельность – это не психика, а лишь активность человека, в том числе моторная, например ходьба, плавание, копание земли, бег трусцой и т. п. Сознательные психические процессы играют определяющую роль в регуляции человеческого поведения, но из этого отнюдь не следует, что человеческая деятельность «тождественна психике» [Е. Е. Соколова, 2005, с. 188] и «составляет субстанцию сознания и психики» (там же).
Психология не занимается, да и не должна заниматься многими другими тесно связанными с психикой человека и зависимыми от нее сферами человеческой жизни: общественными отношениями, культурой, верованиями, языком и т. д., которые в не меньшей степени, чем деятельность, определяются психикой человека и сами влияют на последнюю. Ими занимаются отдельные науки: социология, культурология, теология, лингвистика и др. Поведением, деятельностью человека тоже должна заниматься особая наука, смежная с психологией, которую следовало бы назвать «реальным бихевиоризмом».
«Советский бихевиоризм», в основании которого лежат идеи И. М. Сеченова, И. П. Павлова и В. М. Бехтерева, имеет и других чрезвычайно авторитетных основателей. В его обоснование можно привлечь даже высказывания Л. С. Выготского (2000):
Или психические феномены существуют – тогда они материальны и объективны, или их нет – тогда их нет и изучать их нельзя. Невозможна никакая наука только о субъективном, о кажимости, о призраках, о том, чего нет. Чего нет – того нет вовсе, а не полунет, полуесть… Нельзя сказать: в мире существуют реальные и нереальные вещи – нереальное не существует… Субъективное есть кажущееся, а потому – его нет [с. 105].
Л. С. Выготский поддерживал многие идеи бихевиористов, в частности одну из основных идей основоположника американского бихевиоризма Дж. Уотсона. Так, Л. С. Выготский (2000), например, пишет:
Даже мышление всегда сопровождается теми или иными подавленными движениями, большей частью внутренними речедвигательными реакциями, то есть зачаточным произнесением слов. Произнесете ли вы фразу вслух или продумаете ее про себя, разница будет сводиться к тому, что во втором случае все движения будут подавлены, ослаблены, незаметны для постороннего глаза, и только. По существу же и мышление, и громкая речь суть одинаковые речедвигательные реакции, но только разной степени и силы. Именно это дало повод физиологу Сеченову, положившему начало учению о психических рефлексах, сказать, что мысль есть рефлекс, оборванный на двух третях, или первые две трети психического рефлекса [с. 134].
Идея эта была позже опровергнута в эксперименте С. Смита и соавторов (см. разд. 1.1.4). Впрочем, и великие ошибались. Л. С. Выготский тем не менее принимал интроспекцию. Он (2000) пишет, например:
…оно (самонаблюдение. – Авт.) есть инструмент в ряду других инструментов, как глаз у физиков. Использовать его нужно в меру его полезности, но никаких принципиальных приговоров над ним – о границах познания или достоверности, или природе знания, определяемых им, – выносить нельзя [с. 53].
Современный российский необихевиоризм занимает весьма активную позицию. Так, Е. Е. Соколова (2005) замечает:
Как ни странно, до сих пор многие современные отечественные философы, решая проблему идеального, отождествляют психическое с субъективным и тем самым возрождают в той или иной степени позиции интроспективной психологии. Вот характерные цитаты: «Сознание потому и понимается как субъективная реальность, что выступает как реальность лишь для субъекта…», «Для другого человека его сознание существует так же, как для меня существует мое сознание» [Лузгин В. В., 1985]. Мало того, тем самым психология как объективная наука о сознании оказывается невозможной: данные высказывания противоречат также и накопленному в научной психологии опыту объективного изучения сознания – в частности, школе Выготского – Леонтьева – Лурия [с. 304].
Что касается В. В. Лузгина, то он лишь повторил высказанную еще в античности и очевидную для большинства исследователей мысль о том, что наше сознание является областью, совершенно недоступной для кого-либо еще, кроме нас самих. В этом, собственно, и заключается субъективизм сознания и в то же время абсолютная реальность этой субъективности для каждого человека. Причем субъективное, «кажимое», «призрачное» для любого другого сознания содержание чужого сознания является в то же время единственной и неоспоримой реальностью для самого носителя данного сознания, что тоже было очевидно еще античным мыслителям. Другое дело, что наш подход к чужому сознанию, постоянно и во всем выстраивающий его по аналогии с нашим собственным, делает это субъективное содержание чужих сознаний объективной реальностью в какой-то степени и для нас. Правота критикуемого автором В. В. Лузгина настолько очевидна, что я не вижу смысла даже дискутировать по этому поводу.
Е. Е. Соколова продолжает:
Известный отечественный психолог Б. М. Теплов не уставал повторять, что в самонаблюдении наше сознание нам непосредственно не дано: «В ощущении и восприятии мы непосредственно воспринимаем объективную реальность. Самих же ощущений и восприятий мы непосредственно не воспринимаем, о них мы узнаем опосредованно»… [с. 304].
Б. М. Теплов (2005) действительно пишет:
Нередко думают, что словесные высказывания испытуемого в обычных экспериментах по изучению ощущений и восприятий есть показания самонаблюдения. Это ошибка. Показания о том, что испытуемый видит, слышит, вообще ощущает или воспринимает, – это показания о предметах и явлениях объективного мира. …Но какое же основание говорить о показаниях самонаблюдения или об использовании интроспекции в обычных экспериментах по изучению ощущений или восприятий, когда испытуемые отвечают на такие, например, вопросы: «Какой из двух квадратов светлее?», «Какой из двух звуков выше (или громче)?» и т. п. Совершенно очевидно, что здесь испытуемый занимается не интроспекцией, а экстраспекцией, не внутренним восприятием, а самым обычным внешним восприятием. Совершенно очевидно, что он дает здесь не показания самонаблюдения, а показания о предметах и явлениях внешнего мира. …Иначе пришлось бы признать, что все естествознание строится на показаниях самонаблюдения, так как нельзя себе представить научное наблюдение или эксперимент, которые могли бы обойтись без суждений восприятия [с. 157].
Проблема, однако, не так проста, как может показаться. Здесь мы сталкиваемся с двойственностью того, что называем образом восприятия объекта. С одной стороны, это – физический объект. С другой стороны – психическое явление. Как говорят об этом У. Джеймс и Б. Рассел (см. разд. 1.4.1), то, с чем мы в итоге имеем дело, зависит от контекста рассмотрения проблемы.
Вернемся к испытуемому. Для того чтобы он ответил на вопрос: «Что именно он видит?» – он должен увидеть что-то. Затем смоделировать увиденное вербально, то есть построить специальную вербальную, а затем и языковую конструкцию. Например: «Я вижу три светящиеся точки». Что такое данное утверждение, если не результат интроспекции? Если бы такого утверждения не было вовсе, например, испытуемый увидел точки и без особых раздумий нажал на кнопку, сигнализирующую экспериментатору о данном факте, можно было бы условно согласиться с Б. М. Тепловым, что здесь есть лишь «экстраспекция – обычное внешнее восприятие». Но в том-то и дело, что здесь испытуемый отдает уже себе и даже окружающим вербальный отчет в том, что видит, и видит именно три точки, а это он может сделать только путем интроспекции.
Даже если испытуемый просто говорит: «Три светящиеся точки», то и в этом случае понимает, что именно он видит их. Из сказанного следует, что самое банальное наше заявление типа: «Я проснулся» или «Я вижу солнце» – это уже далеко не просто факт восприятия, а результат рефлексии, а следовательно, и интроспекции. Мне представляется, что наша психика функционирует таким образом, что процессы рефлексии7протекают в сознании непрерывно или почти непрерывно, в противном случае мы не могли бы функционировать. Даже если бы рефлексия протекала лишь эпизодически, мы с недоумением все время обнаруживали бы себя в самых неожиданных местах и в странных позах. Хотя и само это обнаружение было бы невозможно без рефлексии.
Чем фраза испытуемого: «Я вижу три светящиеся точки» – отличается, например, от фразы испытуемого-психолога: «Я имею образ восприятия трех светящихся точек»? Мне представляется – лишь тем, что второй испытуемый владеет специальной психологической терминологией, возможно, глубже рефлексирует содержание своего сознания и в состоянии с несколько более научным, так сказать, пониманием преподнести результаты собственной интроспекции по сравнению с первым испытуемым. Но и в первом и во втором случае испытуемые доносят до нас возникшие в их сознании и осознанные ими факты присутствия в их сознании новых психических феноменов. Поэтому, когда другой человек говорит о предметах и явлениях окружающего объективного мира, мы обычно имеем дело с результатами его интроспекции, с его анализом собственного внутреннего психического содержания. Не может быть никаких самоотчетов испытуемого, в том числе о наблюдаемой окружающей реальности, без интроспекции. Сама фраза я вижу… – результат рефлексии, а значит – интроспекции, так как рефлексия и тем более вербальный самоотчет о ее результатах в форме выражений: я вижу…, я слышу…, я чувствую…, я понимаю… и т. п. – невозможны без интроспекции.
Б. М. Теплов (2005) касается и другой сложной проблемы, когда говорит:
Никакой здравомыслящий человек не скажет, что военный наблюдатель, дающий такие, например, сведения: «Около опушки леса появился неприятельский танк», занимается интроспекцией и дает показания самонаблюдения. …Но ведь дело, в сущности, не меняется, если военный наблюдатель или разведчик дает показания по памяти, то есть показания о том, что он видел несколько часов назад. И эти показания никто не назовет показаниями самонаблюдения; это высказывания о предметах внешнего мира, а вовсе не о самом себе, хотя по таким высказываниям и можно определенным путем вывести суждения о памяти человека, дающего показания. Следовательно, и о показаниях испытуемых во многих экспериментах, посвященных изучению памяти, нельзя сказать, что они являются показаниями самонаблюдения [с. 157].
Не только образы представления и образы воспоминания, но и образы восприятия возникают в сознании наблюдателя, а не во внешнем мире. Поэтому образ восприятия столь же субъективен и столь же недоступен объективным методам изучения, как и всякий образ сознания. Следовательно, придется признать, хоть это и не принимает Б. М. Теплов, что не только наблюдения разведчика, о которых он рассказывает, но и действительно «все естествознание строится на показаниях самонаблюдения». В случае разведчика мы имеем дело с вербальным моделированием собственных чувственных репрезентаций реальности. Можно сказать – с повторным или вторичным моделированием, основанным на интроспекции, с формированием вербальных психических моделей (описательных моделей) первичных сенсорных психических репрезентаций (образов и ощущений реальности). Если человек рассказывает что-то по памяти, то в его сознании возникают образы воспоминания, о которых он и рассказывает. Что это такое, если не интроспекция? Как еще, кроме интроспекции, может быть доступно человеку содержание его памяти?
Сам Б. М. Теплов признает:
Показаниями самонаблюдения следует называть лишь высказывания испытуемых о себе, о своих действиях и переживаниях [с. 157].
Тогда если наблюдатель говорит: «Я видел танк», то это – результат интроспекции, но если же он говорит: «Вдруг появился танк», то это уже не результат интроспекции? Весьма сомнительное утверждение. Конечно, показания наблюдателя, в том числе военного, не принято называть «показаниями самонаблюдения», но лишь исходя из соображений «здравого смысла». Мы же рассматриваем их психологическую природу. И, исходя из механизмов их возникновения, вполне можем назвать их сформированным в результате интроспекции отчетом о собственных воспоминаниях. Что будет правильно.
Если военный наблюдатель просто видит что-то малоактуальное для него и забывает об этом или в его сознании спонтанно возникают образы воспоминания танка, выползающего из-за деревьев, и исчезают – это действительно не интроспекция, а лишь его психические переживания. Если же он отдает себе отчет в том, что видит или вспоминает нечто, например увиденный им где-то танк, а отдавать себе отчет он может лишь в форме вербальной конструкции: я вижу танк, или просто вижу танк, или видел танк, то есть репрезентирует данный чувственный факт собственной перцепции себе уже вербально – это уже не что иное, как сформированный в процессе интроспекции самоотчет о собственных психических переживаниях. Хотя рассматривать в такой плоскости собственные репрезентации окружающего мира и не принято.
Естественно, в реальной жизни практически невозможно дифференцировать те психические явления и переживания, которые мы рефлексируем, и те, которые не рефлексируем, то есть те, которые подвергаются интроспекции, и те, которые ей не подвергаются. Слишком быстро наши образы и идеи сменяют друг друга. Но и без того очевидно, что рефлексия, а следовательно, и интроспекция почти постоянно осуществляются нашим сознанием, так как без этого невозможна даже нормальная ориентировка в окружающем мире.
Можно согласиться с Б. М. Тепловым в том, что самонаблюдение – более широкое понятие, чем интроспекция, так как оно может включать в себя, например, самонаблюдение за собой, за своим телом в зеркале, просмотр фильмов о самом себе, о своем поведении, знакомство с мнением других людей о себе и т. д. и т. п. Интроспекция же – это непосредственное наблюдение и описание собственных психических феноменов – единственно возможный способ непосредственного изучения субъективного психического содержания человеческого сознания.
Следует подчеркнуть, что позиция Б. М. Теплова и его последователей далеко не общепринята. Б. Г. Мещеряков (2004), например, отождествляя самонаблюдение и интроспекцию, рассматривает их как разновидности наблюдения (метод субъективного наблюдения). Он пишет:
…психологические науки всегда были «уникальным заповедником» метода субъективного наблюдения. Его-то и пытались уничтожить некоторые представители так называемой объективной психологии (он говорит более чем мягко; в действительности интроспекцию просто уничтожили и продолжают клеймить, хотя и пользуются при этом ею вовсю. – Авт.). …В значении достаточно широком (метод объективного наблюдения. – Авт.) – это любой метод наблюдения, в котором выполняется требование независимого контроля (наблюдателями-дублерами или с помощью приборов). Существует наивное представление, что методы самонаблюдения в принципе не удовлетворяют такому требованию, тогда как экстероспективные и особенно приборные наблюдения всегда ему удовлетворяют (и в этом смысле объективны). С обоими утверждениями можно не согласиться [с. 285–286].
А. Ребер (2001а) тоже полагает, что:
…нет никакой логической причины того, почему субъективный должен быть менее надежным или достоверным, чем объективный [с. 330].
Продолжая обсуждение, имеет смысл рассмотреть понятия субъективный и объективный. Основные признаки субъективного: внутренний, персональный, недоступный для общественного рассмотрения, ощущаемый или психический, не подтверждаемый другими непосредственно, обусловленный личными, эмоциональными оценками, ненадежный, предвзятый [Большой толковый психологический словарь, 2001а, с. 329–330]. Признаки объективного: физический, очевидный или реальный для всех воспринимающих его, доступный публичной верификации и надежный, фиксируемый как независимый от субъекта, внешний по отношению к телу или сознанию, свободный от психического или субъективного опыта [Большой толковый психологический словарь, 2001, с. 541; Современный философский словарь, 2004, с. 480–481]. К признакам объективного можно добавить: воспроизводимый практически без заметных для наблюдателя изменений при повторении тех же условий восприятия, предсказуемый, подчиняющийся известным физическим законам.
Из всего сказанного вроде бы вырисовываются существенные различия между двумя рассматриваемыми группами сущностей. Но настораживает тот факт, что наиболее характерными примерами этих сущностей являются два явления, и оба – психические. Самым характерным примером субъективного выступает образ представления, тогда как единственным примером объективного – образ восприятия. Это более чем странно и парадоксально, если считать истинным разделение мира на две группы принципиально разных сущностей, потому что в итоге мы все равно приходим только к одной – к психической, включающей в себя и образы представления, и образы восприятия.
Идеи об объективном и субъективном основываются на убеждении большинства исследователей в том, что существует объективный предметный мир, который «отражается» в субъективном сознании каждого человека. Данные взгляды по-прежнему доминируют в психологии, несмотря на то что И. Кант еще в XVIII в. утверждал, что предметный мир выстраивается сознанием человека, а не «отражается» им, и исследователи в основном вроде бы с ним согласились. Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, казалось бы, никто из психологов не возражает против «новых» философских представлений. Хотя какие уж они новые, если им почти два с половиной века? С другой – когда доходит до изложения конкретных собственных взглядов, большинство из них почему-то превращаются в ярых «объективистов». Даже, скорее, в «замшелых» материалистов, уверенных, что «стол-то уж точно существует сам по себе и независимо от нашего сознания». Хотя в этом, пожалуй, и нет ничего удивительного, так как здесь работает «здравый смысл»: раз я вижу стол, и ты его видишь, и он его видит, то это, конечно, значит, что стол существует сам по себе, независимо от нас. Причем именно как стол, а не как непонятная кантовская «вещь в себе».
Что будет с понятиями «объективное» и «субъективное», если мы рассмотрим представления о мире, вытекающие из концепции И. Канта?
Согласно «здравому смыслу», существует один объективный физический мир, одинаковый для всех людей, и он отражается в сознании каждого. Согласно же И. Канту, каждое сознание строит предметный мир из недоступного нам физического мира «вещей в себе», о сущности которого мы не можем ничего сказать, так как он недоступен познанию. Каждое сознание уникально. Следовательно, каждое сознание строит свой уникальный предметный или физический мир. Таким образом, вместо одного объективного физического мира существует столько физических миров, сколько существует сознаний.
Чтобы согласиться с этим, достаточно рассмотреть перцептивные картины мира у людей с нормальным зрением, с сильной дальнозоркостью или близорукостью, дальтонизмом, слепых, глухих и т. д. Тогда вместо привычного для «здравого смысла» единого объективного физического предметного мира придется рассматривать разные индивидуальные субъективные предметные миры и наряду с ними один совершенно непонятный и уж никак не предметный кантовский мир «вещей в себе». Его мы не можем считать ни субъективным, ни объективным, так как он доступен нам не напрямую, а лишь в виде соотносимых с ним субъективных репрезентаций нашего сознания. Тем не менее, учитывая биологическое и психическое сходство людей, а также общие способы использования предметов в одних и тех же целях людьми и сходство действий с ними, можно утверждать, что субъективные предметные физические миры, выстраиваемые разными людьми, очень похожи друг на друга. Поэтому у людей не возникает понимания того, что каждый из них живет в своем физическом мире, хотя и очень похожем на физические миры окружающих его людей.
Очевидно, что понятия субъективный и объективный не в состоянии отобразить сложные соотношения между уникальными сознаниями людей и окружающей их «реальностью в себе». Благодаря сходству различных субъективных предметных миров «здравый смысл» легко и привычно отождествляет их друг с другом, превращая в общий «объективный физический мир», существующий якобы вне всякого индивидуального сознания. Так рождается миф о единственном объективном окружающем нас предметном физическом мире. Я ни в коем случае не хочу сказать, что окружающий физический мир не существует. Он, безусловно, есть и не менее реален для нас, чем наше сознание.
Но следует различать понятия «единственный объективный окружающий нас физический мир» и «единственный объективный окружающий нас предметный физический мир». Структуры «реальности в себе» участвуют в процессе конституирования (построения) предметов нашим сознанием, поэтому без нашего сознания в физическом мире нет того, что мы считаем физическими предметами. В нем есть что-то иное – то, что можно было бы назвать «элементами реальности в себе», а И. Кант называл «вещами в себе». Вне конкретного человека существует единственный объективный окружающий физический (но не предметный) мир – «реальность в себе» и миллиарды – по числу живущих людей, разных, пусть и похожих, субъективных предметных миров.
Вернемся к доминирующим сейчас в психологии представлениям «здравого смысла». В соответствии с ними «объективный предметный мир» существует независимо от индивидуального сознания каждого из нас, и его предметы «отражаются» в каждом индивидуальном сознании, обеспечивая тем самым его «объективность». Причем «отражаются» настолько одинаково, что индивидуальными различиями можно пренебречь. Когда мы воспринимаем «внешний реальный и очевидный физический предмет», то он «объективен», так как:
…состояние или функция его доступны публичной верификации, имеют внешние проявления и не зависят (якобы. – Авт.) от внутреннего, психического или субъективного опыта [Большой толковый психологический словарь, 2001, с. 541].
Однако еще раз повторю замечание И. Канта, что вне нашего сознания нет единого объективного предметного мира. И именно наше сознание из некой непонятной «вещи в себе» создает предмет. Вне сознания нет предмета. Следовательно, существует не объективный единый физический стол, например, который воспринимают двадцать человек, сидящих вокруг него, а двадцать субъективных столов. По одному в сознании каждого из сидящих. И это несмотря на то, что люди уверены в существовании вне их сознаний реального физического стола. Далее мы еще будем возвращаться к обсуждению этого вопроса.
А. Бергсон (1992) критически рассматривая существующее в философии положение, пишет:
Материя для нас – совокупность «образов». Под «образом» же мы понимаем определенный вид сущего, который есть нечто большее, чем то, что идеалисты называют представлением, но меньшее, чем то, что реалисты называют вещью, – вид сущего, расположенный на полпути между «вещью» и «представлением». Это понимание материи просто-напросто совпадает с ее здравым смыслом. Мы бы весьма удивили человека, чуждого философским спекуляциям, сказав ему, что предмет, находящийся перед ним, который он видит и которого касается, существует лишь в его уме и для его ума или даже, в более общей форме, как склонен это был делать Беркли, – существует только для духа вообще. Наш собеседник всегда придерживался мнения, что предмет существует независимо от воспринимающего его сознания. Но, с другой стороны, мы также удивили бы его, сказав, что предмет совершенно отличен от его восприятия нами, что ни цвета, который приписывает ему глаз, ни сопротивления, которое находит в нем рука, нет. Этот цвет и это сопротивление, по его мнению, находятся в предмете: это не состояние нашего ума, это конститутивные элементы существования, независимого от нашего. Следовательно, для здравого смысла предмет существует в себе самом, такой же красочный и живой, каким мы его воспринимаем: это образ, но этот образ существует сам по себе [с. 160].
В последней фразе А. Бергсона представлена доминирующая сегодня и в психологии точка зрения «здравого смысла» на окружающую человека реальность. В связи с этим следует констатировать, что психология как-то незаметно, но, мягко говоря, весьма существенно уклонилась от основного направления философского учения о человеке и мире, созданного И. Кантом и его последователями и рассматриваемого в философии как главное достижение кантианства. Это отклонение объясняется преобладанием во взглядах психологов на сознание человека и окружающую его реальность представлений «здравого смысла». Большинство психологов знакомы с достижениями философии, но тем не менее в своих собственных теориях они больше тяготеют к привычному «здравому смыслу», «здраво» полагая: «философия философией, а стол-то вот он». Подобные представления в психологической литературе доминируют абсолютно.
Слабость позиции тех, кто отстаивает точку зрения о жестком отличии субъективного и объективного, очевидна для многих авторов. Так, Э. Кассирер (2006), например, пишет:
…как оказалось – одно и то же содержание опыта может называться и субъективным, и объективным, смотря по тому, в отношение к каким логическим точкам исхода оно берется [с. 314–315].
Автор (2002) полагает, что:
«объективное» в опыте означает для научно-теоретического мировоззрения его неизменные и необходимые элементы: однако чему именно в этом содержании приписывается неизменность и необходимость, зависит, с одной стороны, от общего методологического масштаба, который мышление накладывает на опыт, а с другой стороны, обусловлено наличным состоянием познания, совокупностью его эмпирически и теоретически проверенных взглядов. Вот почему то, каким способом мы применяем понятийную противоположность «субъективного» и «объективного» в процессе формирования опыта, в построении образа природы, оказывается не столько решением познавательной проблемы, сколько ее полноценным выражением [с. 26].
А. Н. Леонтьев (1981) говорит о том же:
…противоположность между субъективным и объективным не является абсолютной и изначально данной. Их противоположность порождается развитием, причем на всем протяжении его сохраняются взаимопереходы между ними, уничтожающие их «односторонность» [с. 34].
Е. Ф. Губский и соавторы замечают:
Объективностью также называют способность что-либо наблюдать и излагать «строго объективно». Но такой способностью человек не обладает. …Поэтому подлинная объективность достигается лишь весьма приблизительно и остается для научного труда идеалом [Философский энциклопедический словарь, 1998, с. 314].
Можно было бы сказать: не достигается никогда.
М. К. Мамардашвили (2002) пишет:
Казалось бы, можно установить в конце концов, что такое «объективное» и как к нему относится сознание. Но странная вещь: у всех философов фигурирует эта проблема, а установление того, что объективно, а что относится к сознанию, каждый раз ситуативно. Нет раз и навсегда заданного чего-то, что всегда объективно, и нет раз и навсегда заданного, что всегда субъективно [с. 166].
Ю. М. Лотман (2004) отмечает, что:
Из наивного мира, в котором привычным способам восприятия и обобщения его данных приписывалась достоверность, а проблема позиции описывающего по отношению к описываемому миру мало кого волновала, из мира, в котором ученый рассматривал действительность «с позиции истины», наука перешла в мир относительности [с. 386],
и цитирует В. Гейзенберга:
…квантовая механика выдвинула еще более серьезное требование. Пришлось вообще отказаться от объективного в ньютоновском смысле описания природы, когда основным характеристикам системы, таким как место, скорость, энергия, приписываются определенные значения, и предпочесть ему описание ситуаций наблюдения, для которых могут быть определены только вероятности тех или иных результатов. Сами слова, применявшиеся при описании явлений атомарного уровня, оказывались, таким образом, проблематичными. Можно было говорить о волнах или частицах, помня одновременно, что речь при этом идет вовсе не о дуалистическом, но о вполне едином описании явлений. Смысл старых слов в какой-то мере утратил четкость. Предельно обобщая, можно, пожалуй, сказать, что изменения структуры мышления внешне проявляются в том, что слова приобретают иное значение, чем они имели раньше, и задаются иные, чем прежде, вопросы [с. 386].
Относительность понятий объективное и субъективное можно легко продемонстрировать на конкретном примере. Каким является мое психическое содержание, например план моих действий на завтра? Очевидно, субъективным. Но каким он является, если вы видите его изложенным на бумаге в виде пунктов предстоящих действий? Очевидно, это уже нечто объективное, так как представленное в виде слов, потенциально способных трансформироваться в субъективное психическое содержание конкретного сознания, оно доступно для многих людей.
Понимая теоретическую шаткость рассматриваемой дихотомии мира на субъективное и объективное и необходимость замены ее в будущем чем-то более адекватным, можно попытаться выделить то, что принято считать объективным. К объективному традиционно относят окружающий предметный мир, а следовательно, наши перцептивные психические репрезентации. Наиболее существенными признаками объективности чего-либо считают:
Можно, однако, сказать, что признаками объективности воспринимаемой физической сущности являются качества ее образа восприятия, что сразу ставит саму концепцию объективности под сомнение.
Что изменится, если вместо термина «физический предмет» мы используем понятие «вещь в себе»? По сути, ничего, кроме признания нами того факта, что вне сознания есть не физический предмет, а лишь «нечто», репрезентируемое в форме физического предмета только в нашем сознании. Внешний мир при этом останется независимым от нашего сознания, но понятия объективное и субъективное станут бесполезными.
Воспроизводимость, или повторяемость репрезентации [см., например: Б. Г. Мещеряков, 2007, с. 51], играет основную роль в установлении признака объективности предмета или факта, так как дает возможность проверить в научном эксперименте результаты восприятия как самому человеку, так и другим людям. В то же время Х. Г. Гадамер (2006), например, ставит под сомнение данный признак:
Каждый из нас может считать проверяемость результатов познания за идеал. Но нужно также признать, что этот идеал чрезвычайно редко может быть достигнут, а те исследователи, которые усиленно стараются его достичь, преимущественно не могут нам сказать ничего серьезного… Нужно признать, что наибольшие достижения гуманитарных наук оставляют далеко позади идеал проверяемости. С философской точки зрения это очень важно [с. 509].
Теория «объективности науки» уже не первый век является доминирующей научной доктриной. Не принято не только критиковать эту теорию, но даже сомневаться в ее достоверности. Дж. Лакофф (2004) замечает:
Многие из тех, кто имеет отношение к миру науки, полагают, что научное мышление требует объективистского взгляда на мир – приверженности принципу существования единственно «правильной» концептуальной системы. Одно только предположение, что в мире могут существовать различные концептуальные системы, столь же разумные, как наша собственная, слишком часто рассматривается, как плевок в лицо науки [с. 33, 395].
Однако подобный подход сродни убеждению в том, что мир можно «правильно» увидеть только через специально созданные для этого очки с синими стеклами. Данное обстоятельство заставляет глубоко задуматься над высказываниями некоторых авторов, что такого рода представления – лишь заблуждение западной познавательной традиции.
О. Шпенглер (1993), например, указывает, что:
…картина души есть всегда лишь картина какой-то определенной души. А претензии западной рационалистической психологии на абсолютную объективность – не более чем европоцентристская иллюзия… [с. 482–483].
Р. Мэй (2001а) цитирует В. Гейзенберга, написавшего:
Идеальная наука, полностью независимая от человека (например, совершенно объективная), – это иллюзия [с. 129].
М. Полани (2004) говорит о том, что какие бы славословия ни возносились «объективности»,
…абсолютная объективность, приписываемая обычно точным наукам, принадлежит к разряду заблуждений и ориентирует на ложные идеалы [с. 321].
…Будучи человеческими существами, мы неизбежно вынуждены смотреть на Вселенную из того центра, что находится внутри нас, и говорить о ней в терминах человеческого языка, сформированного насущными потребностями человеческого общения. Всякая попытка полностью исключить человеческую перспективу из нашей картины мира неминуемо ведет к бессмыслице [с. 321].
С. Прист (2000) обращает внимание на то, что:
наука и значительная часть эмпирического знания дают нам только частичное объяснение реальности. Это происходит потому, что наука и эмпирическое знание являются, в сущности, объективными или же подходят ко всему с позиции третьего лица. Они трактуют свой предмет как «другого». Ни наука, ни эмпирическое знание не способны предложить объяснение субъективности, в частности сознания, которое является субъективным феноменом от первого лица. Кроме того, чисто объективные способы мышления не способны объяснить отношение между сознательными субъектами и воспринимаемыми ими объектами. Наука все рассматривает как физическое. Она не может объяснить сознание и локализацию сознающего субъекта во вселенной [с. 100].
Я ни в коем случае не предлагаю огульно отказаться от всего того, что принято относить к «объективной науке», а предлагаю лишь внимательно разобраться в том, что же именно туда относят и на каком основании. Естественно, меня интересует в первую очередь «объективная психология». Можно выделить два ее варианта: устаревший радикальный и современный. Первый основывается главным образом на бихевиористской позиции и отрицает наличие субъективных психических феноменов как таковых, замещая их чем угодно – от мозговой активности до так называемых моделей поведения. Иллюстрацией такого подхода является, например, следующее высказывание Б. М. Теплова (2005):
Объективный метод в психологии есть метод опосредованного познания психики, сознания… Для объективного метода чужая психическая жизнь не менее доступна научному изучению, чем своя собственная, так как фундаментом этого метода не является интроспекция. …Психическая деятельность всегда получает свое объективное выражение в тех или других действиях, в речевых реакциях, в изменении работы внутренних органов и т. д. Это – неотъемлемое свойство психики, забвение которого неизбежно ведет к подмене «психических реальностей» «психическими фикциями» (Сеченов) [с. 156].
Современные объективисты менее категоричны, да и сами их позиции существенно различаются. Наиболее радикальные из них полагают, что «полноправными» могут считаться только те данные психологических исследований, которые основаны на измерениях в физических, объективных терминах. Другие исследователи придерживаются гораздо более умеренных взглядов, полагая, что для того, чтобы считаться «объективным»,
…научное исследование должно проводиться таким образом, чтобы любой заинтересованный член научного сообщества мог воспроизвести его результаты [Психологическая энциклопедия, 2006, с. 495].
Многие авторы давно и неоднократно высказывали сомнения в способности объективной психологии быть адекватным средством изучения субъективной по своей природе человеческой психики. Э. Гуссерль (1995), например, пишет:
Будучи объективной, психология просто не способна тематизировать психику в ее собственной сущности, то есть исследовать действующее и страдающее «Я». Определяя телесную функцию, участвующую в деятельности оценки или воления, психология может опредметить эту деятельность, индуктивно обработать ее, но может ли она сделать то же самое в отношении целей, ценностей, норм? [С. 324.]
Представители «объективной» психологии утверждают, что в случае интроспекции отсутствует главное достоинство объективного метода8, а именно, доступ разных наблюдателей к «объекту наблюдения». При этом они почему-то игнорируют то обстоятельство, что в случае наблюдения за физическим объектом в сознании у каждого из его наблюдателей тоже возникает лишь свой субъективный образ восприятия данного физического объекта. И все возникшие у наблюдателей образы различаются между собой. Самый банальный пример – различия визуальных перцептивных образов у людей с нормальным зрением и близорукостью или дальтонизмом.
Фактически каждому наблюдателю его сознание репрезентирует особую уникальную перцептивную модель объекта. И лишь наш «здравый смысл» объединяет разные субъективные репрезентации наблюдателей в некий «единый физический предмет», который, однако, есть лишь в сознании и отсутствует в таком виде в окружающем мире. Объект поэтому может быть отделен от субъекта, который его наблюдает или обсуждает, лишь умозрительно, хотя в соответствии со «здравым смыслом» мы привычно считаем, что реальный «физический предмет», данный стол например, находится перед нами в физической реальности. И факт «объективности» этого предмета, а соответственно, и метода его исследования подтверждается тем, что у разных наблюдателей этого стола возникают сходные субъективные репрезентации этого предмета и все они легко воспроизводимы при тех же условиях восприятия предмета. Однако неизменность, очевидность и реальность «единого физического предмета» – внешнего объекта, его «доступность для публичной верификации» и «надежная фиксируемость как независимого от субъекта» на самом деле заключается лишь в сходстве субъективных образов его восприятия у разных наблюдателей и феноменологических особенностях самих перцептивных образов.
Р. Л. Аткинсон, Р. С. Аткинсон, Э. Е. Смит и др. (2007) пишут в своем университетском учебнике по психологии:
Экспериментальный метод отличается от других методов научного наблюдения… возможностью осуществлять точный контроль за переменными [с. 36].
И так считают практически все исследователи. Авторы, однако, почему-то не учитывают того, что большинство этих «переменных» сами являются всего лишь психическими конструкциями9, созданными исследователями со специальными целями, а не присущи исходно физической реальности. В физической реальности нет, например, единиц измерения: метра, секунды, килограмма и др. Там нет большого или малого, толстого или тонкого, высокого или низкого, быстрого или медленного и т. д. Там нет храброго или боязливого, волевого или безвольного, тревожного или спокойного. В физическом мире нет даже красного и белого, теплого и холодного, вкусного и противного, пахучего, болезненного и т. д. Все эти, как принято считать, характеристики физической реальности на самом деле – лишь порождения нашего сознания, которое пытается как-то репрезентировать эту реальность. Э. Гуссерль (1995) пишет:
…объективистская наука видит в том, что она называет объективным миром, универсум всего сущего, не замечая, что никакая объективная наука не может отдать должного субъективности, порождающей науку [с. 322].
Многие авторы отмечают, что в своих «объективных» опытах человек всегда проверяет свои уже существующие теории, а при наблюдении за другим человеком мы не более «объективны», чем при наблюдении за самим собой. Мне представляется, что многие блестящие когнитивные психологи существенно дополнили бы наши представления о психике, если бы смогли побороть наследие бихевиоризма и, кроме экспериментов, обратились бы к самонаблюдению. Когда читаешь работу по когнитивной психологии, часто складывается ощущение, что читаешь что-то, имеющее отношение к вычислительной технике или программированию: «акустические, зрительные, лексические коды», «семантическая информация», «единицы информации», «стимул», «реакция», «сигнал», «индикатор», «переменный стимульный поток», «градиенты», «отдельный импульс информации», «стимульные переменные», «осознаваемые центробежные и центростремительные импульсы», «иконическое хранилище», «вычислительные возможности мозга» и т. д. и т. п.
Дж. Серл (2002) замечает:
Не менее прискорбно то, что мы позволяем нашим методам определять предмет исследования, а не наоборот. Как пьяный, потерявший ключ от своей машины в темных кустах, но ищущий их под светом уличного фонаря, «потому что здесь светлее», мы пытаемся понять, как люди походят на наши вычислительные модели, вместо того чтобы попытаться установить, как действительно работает человеческое сознание [с. 225].
Когнитивная психология оперирует множеством моделей, объясняющих функционирование психики, но они, к сожалению, никак не соотнесены с интроспективными моделями. Складывается впечатление, что с помощью «объективных» и интроспективного методов исследователи изучают не один объект – психику, а два совершенно разных, хотя эти методы могли и должны были бы дополнять друг друга. В. М. Аллахвердов (2000) цитирует Г. Айзенка, который пишет, что для современных психологов:
…самые разумные доводы значат меньше, чем экспериментальные доказательства [с. 66].
Порой доходит до очевидного абсурда, когда когнитивная психология прилагает титанические усилия, чтобы «открыть» совершенно очевидные при интроспекции вещи. Например, проведено множество экспериментов, чтобы установить бесспорный с точки зрения интроспективной психологии факт наличия в сознании зрительных образов представления. Даже такой авторитет, как Дж. Андерсон (2002), с сомнением пишет:
…можно попробовать найти различие между репрезентацией звучания слова в сравнении с напечатанным словом [с. 135].
Между тем их различия – это совершенно очевидный и тривиальный для сторонников интроспекции факт. Достаточно закрыть глаза и представить себе звучащее слово и, например, это же слово представить зрительно в написанном на стене виде, чтобы обнаружить между слуховыми и зрительными репрезентациями слова очевидную разницу. Многие предположения и утверждения когнитивной психологии интроспективная психология могла бы уточнить сразу или изложить иначе. Например, когнитивисты в лице Дж. Андерсона (2002) утверждают, что:
пространственные репрезентации не привязаны к зрительной модальности, к ним также можно получить доступ тактильным или слуховым путем. По-видимому, имеется общая пространственная репрезентация, которая может получать информацию любой модальности [с. 124].
Интроспекция однозначно убеждает нас в том, что у человека существует полимодальная репрезентация объекта реальности, и каждый из ее компонентов имеет свои пространственные характеристики. Еще епископ Д. Беркли (2000, с. 39) установил интроспективным путем в то время, когда даже не знали ни об «объективной психологии», ни об «объективных методах исследования», что пространственные характеристики репрезентаций разной модальности различны. Пространственные характеристики репрезентаций предмета в разных модальностях сложно взаимодействуют между собой. С. Л. Рубинштейн (1999) приводит, например, интересные данные самонаблюдения, демонстрирующие, как перемещение источника звука зависит от визуального восприятия места нахождения говорящего:
Заседание происходило в очень большом радиофицированном зале. Речи выступающих передавались через несколько громкоговорителей… Сначала, сидя сравнительно далеко, я… не разглядел выступавшего… Голос… выступавшего я отчетливо услышал слева, он исходил из помещавшегося поблизости громкоговорителя. Через некоторое время я вдруг разглядел докладчика… и тотчас же звук неожиданно переместился – он шел ко мне прямо спереди, от того места, где стоял докладчик. …Воспользовавшись перерывом, я пересел на заднее место справа. С этого отдаленного места я не мог разглядеть говорившего… звук… снова переместился к громкоговорителю, на этот раз справа от меня. …В течение этого заседания раз 15 звук… перемещался на трибуну или снова возвращался к ближайшему громкоговорителю в зависимости от того, видел ли я говорящего человека… или нет [с. 208–209].
Для того чтобы убедиться в справедливости теории «двойного кодирования в памяти вербальной слуховой и зрительной информации», тоже не требовалось ставить сложные эксперименты (см. о них, например: Дж. Андерсон, 2002). Достаточно мысленно представить себе зрительный образ слона и слуховой образ слова «слон». Очевидно, что есть и тот и другой. Более того, они далеко не исчерпывают всего многообразия психического репрезентирования, так как существует множество других чувственных репрезентаций физического объекта, в том числе тактильных, вкусовых и обонятельных, поэтому следует говорить не о «двойном», а о полимодальном «кодировании информации в памяти». О «двойном» репрезентировании можно говорить лишь в плоскости вербальных – невербальных образов.
Интроспективной психологии были не нужны сложные эксперименты, чтобы установить также тот факт, что после восприятия лингвистического сообщения люди помнят только его смысл, а не точную формулировку, или то, что память на детали сообщения сохраняется на короткое время после его предъявления, а потом исчезает, тогда как память о значении сообщения сохраняется. В то же время трудно или невозможно интроспективным путем получить информацию о сохранении в памяти испытуемого части материала, который кажется ему забытым, но наличие которого эксперименты могут показать. Очевидно, что эксперимент в ряде случаев более точен, чем самонаблюдение, а порой и незаменим. На него меньше влияют знания экспериментатора.
Например, я при попытке воспроизвести опыт Уоллеса, в котором предлагается сравнить длину двух одинаковых параллельных горизонтальных прямых, предварительно заключив их мысленно в перевернутую букву V (рис. 1), получил однозначный ответ – прямые равны. Как только я предложил то же задание своей дочери, немедленно получил ответ: «верхняя – длиннее», так как у нее не было моей установки, что «прямые в любом случае равны».
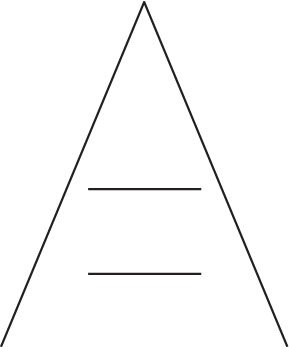
Рис. 1. Параллельные горизонтальные прямые, заключенные в перевернутую букву V
Можно поэтому сказать, что экспериментальная психология и интроспекция могли и должны были бы удачно дополнять друг друга. Экспериментальная психология имеет бесспорное преимущество в определенных областях психологических исследований, например при исследовании памяти, к которой в наибольшей степени подходит модель «черного ящика», и где эффективность самонаблюдения минимальна, а интроспекция имеет неоспоримые преимущества, например при изучении психических феноменов.
Требования объективизировать психологию приводят к нелепым попыткам верифицировать, например, с помощью наблюдения за поведением факт наличия субъективных переживаний. Стремление объективизировать с помощью экспериментальной науки изучение психических явлений, не подлежащих экспериментальному наблюдению в принципе, нередко принимает гротескные формы. Достаточно вспомнить в связи с этим сначала полное неприятие, а затем яростные многолетние дискуссии в когнитивной психологии о наличии или отсутствии «ментальных образов» – образов представления и воспоминания. И это притом, что субъективная регистрация наличия в сознании любого психического явления сама по себе – наидостовернейший, очевиднейший и реальнейший для человека, переживающего его, факт, не требующий уже никаких доказательств и тем более «объективной» верификации. Даже если человеком переживается всего лишь болезненная галлюцинация.
Если один человек, обнаружив в собственной психике некий феномен, моделирует его в форме вербальной психической конструкции и предлагает на всеобщее рассмотрение в качестве особого явления сознания, а другие люди тоже обнаруживают в своем сознании сходный феномен, то его существование в человеческом сознании можно принять как очевидный факт. Такой подход к изучению сознания, впрочем, активно используется со времен античности и, несмотря на позицию объективистов, продолжает применяться в настоящее время даже в самой «объективной» когнитивной психологии. Можно предавать анафеме интроспекцию, но именно благодаря ей была создана классическая феноменология психических явлений, были описаны образы, ощущения, эмоции, потребности и т. д. и сейчас продолжается уточнение этих сущностей. В огромном количестве так называемых объективных, а на самом деле всего лишь воспроизводимых психологических экспериментов10 присутствует самонаблюдение – интроспекция. При этом полученные в них результаты трактуются психологической наукой как «объективные». Что же на самом деле изучают в них исследователи?
Если проводить аналогии с физическим экспериментом, то там воздействуют на объект стимулом с определенными параметрами в строго определенных условиях и регистрируют, какие с объектом произошли изменения. В «объективной» психологии тоже воздействуют на объект – тело испытуемого и опосредованно на его сознание – стимулом с определенными параметрами в строго определенных условиях. Затем регистрируют, но не изменения, которые произошли с объектом – телом и уж тем более не с сознанием, потому что изменения в сознании невозможно наблюдать непосредственно, а некие реакции второго, третьего и последующих порядков, ставшие результатом первичных изменений в объекте – теле, обладающем сознанием. Чаще всего изучается психомоторная активность испытуемого, в том числе в форме его ответов и самоотчетов.
Речевые ответы – это, как правило, самоотчеты испытуемых об их самонаблюдениях либо даже уже интерпретации испытуемыми этих их самонаблюдений. Двигательные ответы представляют собой обычно произвольное движение, которым испытуемый указывает один из предложенных ему исследователем вариантов ответа на поставленную перед ним в эксперименте задачу. Это даже не результат мысленного действия, направленного на решение задачи, а последующее указание испытуемого окружающим на соответствующий результат или вербализация результата его мысленных действий, то есть вторичная коммуникативная реакция испытуемого. Таким образом, в психологических экспериментах изучаются обычно не психические феномены, а поведенческие последствия экспериментальных воздействий на организм испытуемого.
Учитывая то обстоятельство, что субъективное пространство в принципе недоступно ничему, кроме интроспекции, то, чем занимается «объективная» психология, есть главным образом «объективизация» субъективных самоотчетов (толкование результатов чужой интроспекции) либо просто изучение поведения и изменений физиологических процессов у испытуемых в ответ на действие стимулов, обладающих для испытуемых субъективным значением. Регистрируемые поведенческие и физиологические ответы испытуемых привязываются авторами исследований к собственным психологическим теориям, обычно выстраиваемым на основе собственной интроспекции исследователей.
Рассмотрим, например, несколько классических «объективных», с точки зрения одного из основоположников «объективной» когнитивной психологии – Дж. Андерсона, психологических экспериментов, на которые автор ссылается в своей монографии (2002) по когнитивной психологии. Начнем с тех, в которых самонаблюдения, казалось бы, нет. Например, с эксперимента.
Р. Уоррен и Р. Уоррен (Warren R.M. & Warren R.P., 1970) предлагали испытуемым распознавать предложения, подобные, например, следующим:
It was found that the –eel was on the axle.
It was found that the –eel was on the shoe.
It was found that the –eel was on the orange.
It was found that the –eel was on the table.
Везде (–) обозначает неречевой звук. Однако испытуемые обычно слышали соответствующее контексту слово: wheel, heel, peel, meal. Авторы делают вывод, что восприятие неясного слова, во-первых, не происходит мгновенно и, во-вторых, зависит от контекста, то есть от восприятия других слов.
/Перевод: «Было обнаружено, что колесо на оси», «Было обнаружено, что каблук на туфле», «Было обнаружено, что шкурка на апельсине», «Было обнаружено, что еда на столе»./
В чем заключается «объективность» данного эксперимента?
Мне ответят: в доступности его результатов многим наблюдателям, в возможности повторить все условия эксперимента и его результаты (то есть в их воспроизводимости и контролируемости) и в отсутствии интроспекции в эксперименте. Еще раз напомню, что объективными в научной психологии могут считаться:
…только те данные, которые основаны на измерениях в физических, объективных терминах. Особое значение придается исключению данных, основанных на интроспекции или интерпретации [Большой толковый психологический словарь, 2001, с. 541].
Однако действительно ли в данном эксперименте не используется интроспекция испытуемых?
Здесь мы опять возвращаемся к рассказу военного наблюдателя (см. выше). Интроспекция, безусловно, используется в этом эксперименте, так как испытуемый рассказывает о том, что он слышал, то есть вербально моделирует собственные образы воспоминания, что невозможно сделать без интроспекции. Это становится совершенно очевидно, когда испытуемый, например, прямо говорит: «Я слышал предложение…» Однако мы опять делаем вид, что интроспекция в данном эксперименте не используется, или на самом деле не понимаем того, что имеем дело с результатами интроспекции испытуемых.
В других, тоже «объективных», экспериментах уже прямо декларируется, что используется интроспекция испытуемых.
Р. Мойером (R. S. Moyer, 1973) измерялось время, необходимое для мысленного сравнения объектов. Испытуемым предлагалось оценить по памяти относительные размеры двух животных, например лося и таракана, волка и льва. Многие испытуемые сообщали, что, давая оценки, они переживали образы объектов и действительно мысленно сравнивали их размеры. Автор предлагал также оценить абсолютные размеры животных. Он установил, что увеличение разницы в размере объектов уменьшает время реакции испытуемых. Наибольшие трудности возникали при сравнении близких по размерам объектов.
Вопрос: что изучается здесь «объективно»? Ответ: ничего. Как я уже подчеркивал, объективная психология исключает возможность использования данных интроспекции. Р. Мойер же непосредственно использует результаты интроспекции испытуемых. Основываясь на гипотезе, выстроенной на основе собственной интроспекции, экспериментатор успешно «объективно» доказывает в интроспективном эксперименте, что задача на различение визуальных образов представления двух объектов будет решаться быстрее, если объекты различаются в большей степени. И тем не менее Дж. Андерсон приводит этот эксперимент в качестве вполне «объективного» в своей основополагающей монографии по когнитивной психологии. «Объективность» же, по-видимому, заключается в факте измерения исследователем времени получения от испытуемых интроспективных самоотчетов. Следовательно, стоит только добавить в эксперимент чуть-чуть математики или физики, как мы уже готовы считать его достоверным и «объективным». Вспоминаются слова Р. Мэя (2001в):
В нашей культуре главенствует странное убеждение, что вещь или опыт не реальны, если мы не можем привести их к математической формуле, а если мы можем свести их к числам, то, так или иначе, они реальны. …Современный западный человек оказывается в странной ситуации после того, как что-то сводит к абстракции: он вынужден убедить себя, что эта абстракция существует в реальности. …Только тот опыт мы полагаем реальным, который точно таковым не является. Таким образом, мы отрицаем реальность наших собственных переживаний [с. 144].
Из сказанного мною не следует, что я не согласен с автором эксперимента или против подобных экспериментов. Я лишь демонстрирую, что это не «объективная» психология, а попытка объективизации, точнее – даже формализации результатов интроспекции исследователя и его испытуемых.
Не менее «объективен» и широко известный в когнитивной психологии эксперимент Р. Финке, С. Пинкера и М. Фараха (R. A. Finke, S. Pinker & M. J. Farah, 1989), который тоже рассматривается Дж. Андерсоном [2002, с. 125] как объективный.
Авторы предлагали испытуемым создавать умственные образы, а затем осуществлять их трансформации. Например, предлагалось представить заглавную букву N, а затем провести линию от верхнего правого угла к нижнему левому углу. Затем вообразить заглавную букву D, повернуть ее на 90 градусов влево и поместить снизу заглавную букву J. Испытуемые осуществляли эти преобразования с закрытыми глазами и отвечали, что у них получилось. В первом случае они видели песочные часы, во втором – зонтик.
По мнению когнитивных психологов, считающих себя «объективными исследователями», описанный эксперимент объективно продемонстрировал, что испытуемые способны строить в своем сознании визуальные образы представления и трансформировать их. В действительности же здесь наблюдатель предлагает испытуемому провести некое мысленное действие со зрительными образами представления и дать вербальный отчет о результатах своей интроспекции. Сам экспериментатор, без сомнения, произвел ранее те же действия мысленно. И на основании интроспекции сделал вывод о трансформации одного визуального образа в другой. Далее он сравнивает результаты собственной интроспекции с результатами интроспекции испытуемого. Данный «объективный» эксперимент целиком и полностью основывается на интроспекции испытуемых, которые что-то воображают, мысленно строят, а затем выдают ожидаемый экспериментаторами ответ. Таким образом, мы вновь имеем дело с типичным интроспективным экспериментом, который «превратился» в «объективный» лишь потому, что легко может быть повторен другими исследователями.
Эксперименты по умственному вращению зрительных образов представления, выполненные Р. Шепардом и его коллегами (см., например: R. Shepard & J. Metzler, 1971; R. Shepard, 1975; R. Shepard & S. Shipman, 1970; L. Cooper & R. Shepard, 1973), Дж. Андерсон [2002, c. 116–118] не просто считает объективными, но и рассматривает как одни из наиболее важных исследований умственных образов, проведенных в когнитивной психологии. И это несмотря на то, что существование самих мысленных образов не может быть доказано объективно и не было доказано ни в этих, ни в каких-либо других «объективных экспериментах». Мысленные образы потому и субъективны, что они не доступны никому, кроме субъекта, который их переживает. И данный факт очевиден каждому, кто их имеет, то есть всем.
В эксперименте Р. Шепарда и Дж. Мецлера (R. Shepard & J. Metzler, 1971) испытуемым предъявлялись пары двухмерных репрезентаций трехмерных объектов (рис. 2) и предлагалось определить, идентичны ли объекты без учета их ориентации. Две фигуры на рис. 2, а и б идентичны друг другу, хотя и ориентированы по-разному. На рис. 2, в изображены разные объекты. Авторы просили испытуемых оценить, имеет ли второй предмет такую же форму, что и первый.
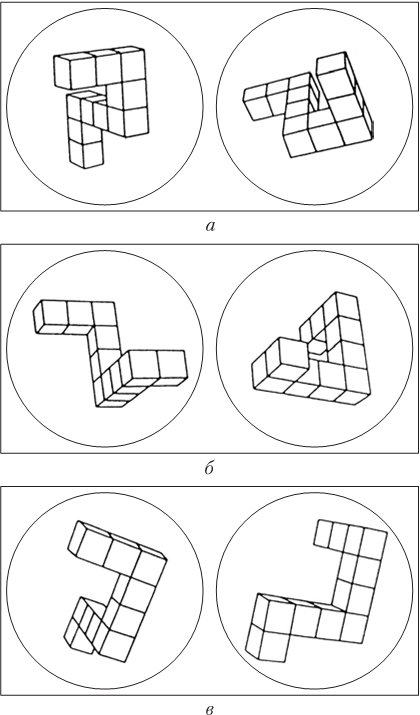
Рис. 2. Стимулы в исследовании умственного вращения, проведенном Шепардом и Мецлером:
а и б – объекты повернуты относительно друг друга на 80 градусов;
в – пара не может быть приведена в соответствие с помощью вращения
На первый взгляд мы имеем дело с физическими объектами, которые вроде бы действительно изучаются в объективном эксперименте. При этом регистрируется время от момента предъявления испытуемому объекта до момента ответа испытуемого. Однако сами исследователи сообщают, что они изучали интроспективные отчеты испытуемых.
По самоотчетам испытуемых, они мысленно вращали один из объектов в каждой паре, пока он не совпадал с другим объектом. Исследователи измеряли время до ответа испытуемых об идентичности или различии объектов. Чем больше был угол поворота второго объекта по отношению к первому, тем дольше испытуемые осуществляли вращение. Требуемое на ответ время оказалось прямо пропорционально углу поворота второго объекта. Чем меньше был поворот, тем быстрее испытуемые принимали решение. Для поворота мысленного образа на 50 градусов требовалось около одной секунды. Авторы заключают, что при выполнении задания испытуемые мысленно поворачивают второй предмет в нужное положение и только после этого оценивают его как обычный или зеркально отраженный. По их мнению, мысленное вращение так же, как и реальное движение, требует времени.
Таким образом, хотя исследователи и регистрировали в процессе экспериментов, казалось бы, объективный физический параметр – время, затрачиваемое испытуемыми на выполнение задания, фактически в этих экспериментах интроспективно изучалась выстроенная экспериментаторами на основе собственной интроспекции еще до проведения исследования гипотеза о том, что испытуемые имеют пространственные визуальные образы объектов и способны мысленно их вращать. Невольно обращает на себя внимание сообщение испытуемых, что «для сравнения двух форм они мысленно вращали один из объектов в каждой паре, пока он не совпадал с другим объектом». Если мне скажут, что это не отчет испытуемых о собственной интроспекции в чистом виде, то дальнейшая дискуссия просто бессмысленна.
В очередном эксперименте Л. Купер и Р. Шепард (L. Cooper & R. Shepard,1973) обнаружили, что время, затрачиваемое испытуемыми на принятие решения о том, какую форму имеет буква – обычную или зеркально отраженную (например, R и Я), тоже возрастает с увеличением угла поворота от «нормального» положения.
П. Подгорный и Р. Шепард (P. Podgorny & R. Shepard, 1978) изучали «мысленные образы» (зрительные образы воспоминания и представления) при помощи квадратов, разделенных на 25 ячеек (5 строк по 5 ячеек). Часть ячеек была заштрихована так, чтобы образовалась буква. Испытуемым предлагалось запомнить квадрат с буквой, а затем предъявлялся другой квадрат, в котором лишь одна ячейка была отмечена меткой, и предлагалось ответить, попадает ли метка на букву. В других экспериментах испытуемым предъявлялись одновременно квадрат с буквой и квадрат с меткой и задавался тот же вопрос. И в тех и в других случаях время реакции было меньше, когда метка попадала на букву, а не на пустую ячейку, а также когда она попадала на удаленную пустую ячейку, когда предъявлялись более простые по форме буквы, когда метка попадала в букву на пересечение горизонтальной и вертикальной линии. Следовательно, и при использовании воображения, и в условиях восприятия общие закономерности решения задач были идентичными. Из этого авторы делают вывод о том, что образы представления функционально эквивалентны перцептивным образам.
П. Жоликер и соавторы (P. Jolicoeur, S. Regehr, L. Smith & G. Smith, 1985) в своих экспериментах обнаружили, что двухмерные репрезентации вращаются быстрее, чем трехмерные, в диапазоне от 60 до 180 градусов. Тогда как в диапазоне от 0 до 60 градусов двух- и трехмерные репрезентации вращаются с одинаковой скоростью.
Не менее показательны «объективные» эксперименты С. Косслина и соавторов (S. Kosslyn, 1973; S. Kosslyn, 1975; S. Kosslyn, 1976; S. Kosslyn, 1977; S. Kosslyn, T. Ball & B. Reisser, 1978).
В одном из них (S. Kosslyn,1973) испытуемым предлагалось запомнить набор рисунков, а затем представлять их мысленно. Попросив испытуемых сосредоточиться на одном конце представляемого ими объекта (например, на корме изображенного на рисунке катера), им называли какую-нибудь деталь катера: иллюминатор, флаг, люк и т. д. и просили ответить, присутствовала ли она на рисунке. Было установлено, что чем ближе деталь располагалась к корме, тем меньше времени требовалось испытуемым для ответа. В других экспериментах (S. Kosslyn, T. Ball & B. Reisser, 1978) испытуемым показывали карту воображаемого острова с различными объектами: зданием, деревом, лугом, колодцем и т. д. Затем им предлагали восстановить мысленно образ острова и называли два объекта (например, здание и луг), между которыми испытуемые должны были провести линию. Было установлено, что время, необходимое для этого, прямо пропорционально расстоянию между этими точками. То же самое имело бы место, если бы испытуемые проводили конкретную линию на реальной карте. Авторы заключили, что мысленные образы можно сканировать и для этого требуется примерно то же время, что и для сканирования реальных картин, а также то, что существуют параллели между мысленными образами (зрительными образами представления и воспоминания) и зрительными образами восприятия.
Продемонстрированная когнитивными психологами в указанных экспериментах тщательность проверки самого факта наличия ментальных образов вызывает у меня лично лишь недоумение, так как, с одной стороны, эксперименты эти не доказывают (тем более «объективно») факта наличия субъективных по своей природе ментальных образов, к тому же они и не являются, да и не могут являться по стандартам объективной психологии «объективными». С другой стороны, можно и нужно, конечно, проверять факты, представляющие ценность для науки, но пытаться проверять и перепроверять факт наличия собственных психических явлений, которые с античности считались самым очевидным для любого субъекта фактом, да к тому же еще и в «объективных экспериментах» – это уже чересчур. Еще для Р. Декарта сам факт наличия психических феноменов являлся бесспорным и первичным настолько, что снимал у автора сомнения в его собственном существовании. Для когнитивистов тем не менее он перестал быть такой бесспорной данностью. Они пошли дальше (?!) Р. Декарта.
Допускаю, но тогда надо быть последовательными до конца, а не рассматривать в качестве новых «объективных» доказательств факта существования ментальных образов попытки измерения времени вращения или сканирования испытуемыми тех самых «сомнительных» ментальных образов. И все это при очевидной недоказуемости (с позиции «объективной» психологии) как самого факта наличия ментальных образов, так и фактов их вращения или сканирования испытуемыми именно в данный момент.
Впрочем, лично я не сомневаюсь в том, что ментальные образы существуют, а испытуемые могут их вращать и сканировать, так как моя собственная интроспекция подтверждает данные факты, но зачем искать легкие пути и приводить в качестве доказательства заведомо необъективные «объективные» эксперименты. Я полагаю, что авторы приведенных экспериментов как раз и не сомневались изначально в существовании ментальных образов, но ставили соответствующие эксперименты, чтобы «объективно» доказать факт их наличия своим «неверующим» коллегам. Парадоксально, но они действительно многим это доказали. Правда, данное обстоятельство скорее огорчает, так как свидетельствует лишь о зашоренности и стереотипности взглядов многих исследователей и неадекватности их представлений об «объективности» собственных экспериментально-психологических исследований.
Давайте еще раз рассмотрим, на чем основываются «научная убедительность» и «объективность» экспериментальных «доказательств» факта наличия ментальных образов. Первое такое «доказательство» заключается в самом факте проведения «научного эксперимента». Данный факт легитимизирует теорию исследователей с точки зрения «объективной» психологии. Второе – в формальном измерении «объективных» физических параметров, например времени. Третье – в воспроизводимости полученных данных в рамках новых подобных «объективных» экспериментов. Что касается собственно факта наличия ментальных образов, как и факта их мысленного вращения, то именно они-то и не регистрировались «объективно», так как это в принципе невозможно, а постулировались в исходных гипотезах экспериментаторов и косвенно выводились ими из того предположения, что и при использовании образов представления, и при использовании образов восприятия общие закономерности решения задач и характер динамики затрат времени на поиск их решения должны быть сходными.
Тому, что с увеличением градуса поворота фигуры увеличивается время поиска решения, как и тому, что затрачиваемое время пропорционально расстоянию между воображаемыми точками, легко можно найти и иные объяснения. Например, то, что в решении этих задач вообще главную роль играют не образные, а вербальные репрезентации (которые, кстати, действительно играют здесь большую роль) и что именно они определяют характер динамики затрат времени на поиск решения. Выводы из всех рассмотренных «объективных» психологических экспериментов фактически постулируются уже в исходных гипотезах исследователей, основанных на их же интроспекции, и лишь косвенно вроде бы подтверждаются результатами экспериментов.
Вообще все указанные выше экспериментальные данные не были бы приняты психологическим сообществом даже к рассмотрению, появись они лет на 20–30 раньше. Просто пришло время для появления и принятия новых взглядов на старые проблемы, так как бихевиоризм сменился менее радикальным когнитивизмом. Поэтому в конечном счете неважно, насколько эти новые взгляды подтверждены «объективными» экспериментальными данными. Необходимо лишь «соблюсти приличия», так как большинство исследователей и без «объективных» экспериментов понимают, что ментальные образы есть, потому что обнаруживают их в собственном сознании. Дело, в общем-то, не в результатах данных экспериментов, относимых уже в литературе к «классическим», а в зависимости мнений и взглядов психологического сообщества от существующих в нем же установок.
Для того чтобы убедиться в том, способны ли мы в своем воображении манипулировать образами объектов, например поворачивать их, переворачивать, вращать и т. д., совершенно не обязательно было проводить специальные «объективные» эксперименты, как делали когнитивные психологи. Достаточно было просто мысленно попробовать манипулировать визуальными образами представления предметов, и результат стал бы очевиден сомневающимся. Тем не менее такие эксперименты были проведены и рассматриваются теперь как эталонные. Такой странный подход даже выдающихся исследователей к оценке «объективности» психологических экспериментов может вызвать лишь сожаление.
Возникают вопросы даже при внимательном рассмотрении «объективности» наиболее красивого и действительно классического «объективного эксперимента», исследовавшего участие «скрытой речи» в мышлении. С. Смитом и соавторами (S. M. Smith, H. O. Braun, J. E. P. Toman & L. S. Goodman, 1947) был проведен эксперимент для проверки гипотезы Дж. Уотсона о том, что «скрытая речь» и другие неявные моторные действия «ответственны» за человеческое мышление.
Авторы использовали производное кураре, парализующее всю мускулатуру человека. Испытуемым был Смит, жизнь которого поддерживалась аппаратом искусственного дыхания. Вся его мускулатура была парализована, поэтому она не могла участвовать в обеспечении «скрытой речи» (проговаривания про себя), которая, по мнению Дж. Уотсона и его сторонников, и есть вербальное мышление человека. Несмотря на это, Смит наблюдал за тем, что происходило вокруг него, понимал речь окружающих, запоминал события и обдумывал происходящее. Результаты исследования убедительно продемонстрировали, что наше мышление осуществляется при отсутствии какой бы то ни было мышечной активности, в том числе беззвучной речи. Следовательно, мышление – это не скрытая речь, не моторная, а особая внутренняя деятельность.
Казалось бы, что может быть более «объективным», чем этот эксперимент? Но возникает вопрос, а на чем основано утверждение экспериментаторов, что испытуемый «все видел, все понимал и даже размышлял об этом» в процессе эксперимента? Очевидно, что на его собственной интроспекции и на последующем отчете о ней.
«Объективность» всех экспериментов, в которых испытуемые использовали интроспекцию, заключается в одном-единственном обстоятельстве – в том, что их можно повторить. Следовательно, «объективность» психологических экспериментов сводится на деле к возможности воспроизвести нечто подобное и настолько, насколько оно вообще может быть подобным. Поэтому мы искренне заблуждаемся, говоря об «объективности» психологических экспериментов, которой на деле нет и быть не может. Есть лишь в лучшем случае относительная и условная их воспроизводимость.
Очевидно, что экспериментальные методы необходимы психологии, но еще более необходимо четко понимать, что такое эксперимент в психологии и каковы его возможности. Не следует его абсолютизировать и надо разграничивать то, что подлежит экспериментальному изучению, а что принципиально ему недоступно. Учитывая то, что в гуманитарных науках истинность новых теорий определяется предпочтениями научного сообщества, доминирующими в нем представлениями и точкой зрения, к которой оно придет в результате обсуждения, можно говорить о возможности создания в будущей психологии иной «объективности», заключающейся в том, что сравниваться могут и должны в том числе результаты интроспективных наблюдений исследователей. В итоге эти субъективные данные будут в максимально возможной степени объективизироваться.
Дискредитация интроспекции оказалась далеко не безвредной для психологии. Она привела к тому, что исследователи перестали серьезно относиться к самонаблюдению, что в конечном счете привело де-факто к признанию психологией человека сложнейшим автоматом и к превращению психики в занимательный эпифеномен.
В заключение хочу напомнить слова Э. Гуссерля (1995):
Я со всей серьезностью утверждаю: никогда не было и никогда не будет объективной науки о духе, объективной психологии – объективной в том смысле, что она рассматривает только пространственно-временные формы, обрекая тем самым психику, личностное общение на небытие. Дух и только дух есть бытие в себе и для себя; только он автономен и доступен истинно рациональному, истинно и принципиально научному изучению в своей автономности, и причем только в ней. Что касается природы и естественно-научных истин, то автономия природы – лишь кажущаяся, а естественные науки лишь представляют дело так, что в них природа якобы сама по себе достигает рациональной познаваемости. Ибо «истинная» природа естественных наук – это продукт духа, исследующего природу, и, таким образом, наукой о природе предполагается наука о духе. Дух по своей сущности способен осуществлять самопознание, а как научный дух – научное самопознание, причем снова и снова. Только если ученый займет позицию чистого познания, присущую науке о духе, его не заденет упрек в том, что деятельность темна для него самого [с. 325].
Почти сто лет назад Л. С. Выготский описал составляющие кризиса психологии начала ХХ в. При этом сам он [2000, с. 69 и 74] ссылался на своих предшественников – Г. Эббингауза и Н. Н. Ланге, которые тоже описывали кризис современной им психологии. Из чего можно заключить, что психология пребывает в кризисе с момента своего выделения из философии в самостоятельную науку. Причем все давно описанные классиками признаки кризиса присутствуют в психологии и сегодня. В начале XXI в., как и во времена Г. Эббингауза, вполне актуально замечание последнего, что «до сих пор не прекращаются споры» относительно почти всех наиболее общих вопросов психологии. Столь же актуальны и слова Н. Н. Ланге, что в психологии нет общей системы и что кризис расшатал всю психологическую науку. Н. Н. Ланге полагает [цит. по: Л. С. Выготский, 2000, с. 69], что описание любого психического процесса получает разный вид в зависимости от того, в категориях какой психологической системы: Эббингауза или Вундта, Штумпфа или Авенариуса, Мейнонга или Бине, Джеймса или Мюллера – будем мы его характеризовать и изучать. В психологии всякое описание есть всегда уже и некоторая теория.
Надо с сожалением признать, что и сейчас также справедливы слова Л. С. Выготского (2000), что «общей психологии как единой системы нет…» [с. 51], что научный язык есть орудие мысли и инструмент анализа, а психология не имеет своего языка. Ее словарь представляет собой:
…конгломерат из трех сортов слов: 1) слова обиходного языка, смутного, многосмысленного, приноровленного к практической жизни… 2) слова философского языка, утерявшие связь с прежним смыслом, многосмысленные вследствие борьбы разных философских школ, абстрактные в максимальной степени… 3) наконец, слова и формы речи, заимствованные из естественных наук и употребляемые в переносном смысле. Служат прямо для обмана [с. 61–62].
Автор подчеркивает важнейшую роль научных понятий для формирования психологии и необходимость для нее единой теории:
…слово, называя факт, дает вместе с тем философию факта, его теорию, его систему [с. 63].
…факты, добытые при помощи разных познавательных принципов, суть именно разные факты [с. 58].
Самые, по-видимому, точные исследования, наблюдения и измерения могут… оказаться при изменении смысла основных психологических теорий ложными или во всяком случае утратившими свое значение [с. 69].
Эти слова Л. С. Выготского актуальны и сегодня, о чем свидетельствуют совсем недавние замечания современных исследователей:
В психологии, по сравнению с другими науками, положение осложнено не только и не столько частым заимствованием житейской терминологии, но и отсутствием единых определений и их единообразного понимания представителями разных психологических и философских школ, направлений, теорий и т. д. [В. В. Любимов, 2007, с. 44].
…еще и не уточнены (в психологии. – Авт.) основные категории – что воспринимается, каким образом и зачем. В поисках ответа на эти вопросы необходимо изменить сам понятийный аппарат, определив суть окружающей среды, объекта и его детали, то, какие психические конструкции они формируют, а также уточнить содержание таких привычных психических конструкций, как представление, понятие, контекст, ввести ряд дополнительных психических образований [Э. Е. Бехтель, А. Э. Бехтель, 2005, с. 8].
Несмотря на победные реляции, широко представленные в психологической литературе, в изучении основных проблем психологии наблюдается застой. О застое в психологии свидетельствует то, что, как пишет, например, Б. М. Величковский (2006а):
Проведенное некоторое время назад сравнение большого числа англоязычных руководств по психологии чтения показало, что лучшее из них было написано… в 1908 г. (Huy, 1908). …Примерно тот же факт, но уже по отношению к немецкоязычной литературе отмечает и Э. Шерер (Scheerer, 1978), подчеркивая современность руководства Э. Мейманна 1914 г. [с. 299].
В психологии до сих пор не только не определено, что такое психика, сознание и бессознательное11, психические процессы и состояния, но даже такие относительно простые психические явления, как ощущение, образ и понятие. В полной мере актуальны слова Э. Гуссерля (2000):
Современная психология не хочет больше быть наукой о «душе», но стремится стать наукой о «психических феноменах». Если она этого хочет, то она должна описать и определить эти феномены со всей логической строгостью. Она в методической работе должна усвоить себе необходимые строгие понятия. Где же в «точной» психологии выполнена эта методологическая работа? Мы тщетно ищем ее в огромной литературе [с. 695].
Психология осталась без своего центрального предмета. Она изучает все что угодно, кроме того, что в первую очередь должна изучать – человеческое «Я» и сознание. Современная психическая феноменология представляет собой совокупность не связанных между собой единой теорией психических явлений: например, ощущений и образов, с одной стороны, понятий и вербальных конструкций – с другой. Хотя психика не может представлять собой набор не связанных друг с другом феноменов. Можно предположить, что на самом деле они имеют какие-то общие корни. Некоторые психические явления вообще психологически не определены. Например, понятия. Или определены явно недостаточно. Например, мотивы.
Отказавшись быть наукой о душе, психология не стала и наукой о психических феноменах, так как она не в состоянии определить саму их суть. Да что говорить о научных понятиях, если не определен сам предмет психологической науки. Одни исследователи по-прежнему полагают, что следует изучать поведение человека, другие – что надо изучать психику и сознание. Одни считают, что человек – это по сути своей «продвинутая» машина, суперЭВМ. Других возмущает такой подход.
Отрицанию существования у человека души положили начало сами основоположники научной психологии В. Вундт и У. Джеймс.
Однако этот факт и воинствующий объективизм новой науки в конечном счете привели психологию к перманентному кризису и фактическому признанию человека биологической машиной. Можно понять основоположников психологии, которым надо было избавить новую «объективную науку» от теологического засилья «бессмертной души». Но нам сейчас надо заново и непредвзято взглянуть на проблему.
Н. Смит (2003) пишет:
Современная психология характеризуется не только наличием разногласий по поводу своего предмета, но и крайней раздробленностью в своих теоретических и методологических подходах. …В этой ситуации снова оказывается вполне уместным задать… вопросы… Является ли психология наукой, занимающейся изучением души и ее репрезентаций существующего независимого от нее реального мира? Изучает ли она формы поведения, испытывающие влияние разумной души (или познающего разума)? Или, может быть, просто формы поведения? Или воздействия окружающей среды на организм? А может быть, мозга? Или же взаимоотношения организма и среды в контексте? [С. 62–63.]
Продолжающийся с момента возникновения психологии кризис привел сейчас к тому, что она фактически распалась на ряд самостоятельных областей знания, которые на всех парах двигаются в направлении превращения в отдельные, порой несовместимые друг с другом дисциплины. Это обусловлено тем, что сегодня, как и во времена Л. С. Выготского, нет общего понимания предмета психологии, ее целей и задач, а потому, естественно, нет и единой научной терминологии, нет единых представлений о психике. Б. М. Величковский (2006а) цитирует Claxton, 1980:
Мы напоминаем обитателей тысяч островов, расположенных в одной части океана, но не имеющих сообщения друг с другом. На каждом острове развивается своя культура, свой язык. Иногда мы видим на соседнем острове группы каких-то людей, которые, судя по всему, танцуют, издавая при этом непонятные крики. Но поскольку мы не знаем, что все это означает, то эти впечатления быстро забываются [с. 287].
В. В. Козлов (2007) замечает:
…научная психология с неизбежностью пришла к своему кризису по причинам, имплицитно содержавшимся в ней с самого начала [с. 44]. …психология – для того чтобы стать наукой – принесла сперва в жертву Дух и божественное, а затем заклала душу и сознание, обнажившись до физиологического акта [с. 35].
В. М. Аллахвердов (2000) говорит о том же:
Психология… в течение всего времени своего существования находилась в кризисе, так как не смогла выработать общего взгляда на психику и сознание. Психологи породили много оригинальных идей, обнаружили неожиданные экспериментальные феномены, создали практически эффективные технологии, но не нашли способа увязать все это воедино. К концу XX столетия психология отчетливо распалась на множество никак не связанных друг с другом отдельных дисциплин. …В психологии вообще нет ясных и общепринятых определений практически всех важнейших терминов. Крайне загадочны определения психики, эмоций, памяти, интуиции, личности. …Существующую психологическую терминологию не ругает только ленивый. …Современные руководства по экспериментальной психологии – это сводка не связанных между собой данных: отдельно по восприятию, отдельно по памяти, отдельно по личности, отдельно по социальному взаимодействию и т. д. [с. 12–13, 31 и 118].
Результатом тотальной «объективизации» психологии стали бихевиоризм, отказ от самости, отказ от интроспекции, отказ от сознания и, наконец, принятие возможности создания искусственного машинного «интеллекта». Все это колоссальные мировоззренческие ошибки, «значение» которых трудно переоценить. Дж. Серл (2002) замечает:
Трудно преувеличить те разрушительные последствия, которые оказала на философские и психологические исследования… неспособность примириться с фактом субъективности сознания. …На поверхности крах большинства исследований в области философии сознания и значительное бесплодие академической психологии… [с. 101].
Более, чем что-либо еще, пренебрежение сознанием является причиной непродуктивности и стерильности в психологии, философии сознания и когнитивной науке. Исследование разума (mind) есть изучение сознания практически в том же смысле, что и исследования в области биологии есть изучение жизни [с. 209].
О том же говорит Г. Олпорт (2002):
Не только душа и «Я» пострадали от остракизма. Вместе с ними ушла обширная совокупность проблем, имеющих отношение к связности и единству ментальной жизни, к гордости, амбициям и статусу, идеалам и видам на будущее. Этот упадок, конечно, не был тотальным, но он был значительным [с. 76].
Б. М. Величковский (2006а) пишет:
Хайнц Хекхаузен заметил однажды, что научная психология сначала потеряла душу, а затем – сознание и рассудок [с. 87].
В. В. Козлов (2007) добавляет:
Ни практики, ни теоретики психологии не пытаются рефлексировать целостную картину психической реальности человека. В психологии отсутствует восприятие целостной картины психической реальности, которая проявлена на всех уровнях – от биологического до духовного [с. 49].
Актуальны слова К. Г. Юнга (1997):
…мы воспылали восторженной любовью к фактам – горам фактов, намного превышающим способность отдельного человека обозреть их. Мы питаем благочестивую надежду, что это случайное скопище фактов со временем примет форму значащего целого, однако никто не уверен в этом полностью, ибо ни один человеческий мозг не в состоянии охватить гигантскую общую сумму такого серийно производимого знания [с. 505].
С ним согласен один из основателей когнитивного подхода Дж. Брунер:
…горы разрозненных данных разваливаются из-за отсутствия связи с основным «стволом» психологического знания, или, может быть, сам этот «ствол» не достаточно прочен, чтобы выдержать такую нагрузку [Bruner, 1975, p. 17] [цит. по: Б. М. Величковский, 2006а, с. 336–337].
И сегодня, как и прежде, психология представляет собой большую груду фактов, мало связанных между собой. В Большом толковом психологическом словаре (2001а) так и написано, что психология:
…это о предмете или о многих предметах [с. 148].
Существующая психология недиалектична. Разные ее части совершенно самостоятельны и оторваны друг от друга, чего не может быть в целостной науке. Также разорвано и бессвязно психология моделирует психику, что совершенно неадекватно, так как психика диалектична по самой своей природе и разные ее части тесно взаимосвязаны. Психика – это единое целое, поэтому по одним ее элементам можно делать выводы о строении других. Э. Кассирер [1988, с. 5] пишет, что еще Аристотель был убежден в существовании непрерывной последовательности как в природе, так и в познании, что высшие формы развиваются из низших. Чувственное восприятие, память, опыт, воображение и разум включены в общую связь, элементы которой суть лишь различные стадии и выражения одной и той же основополагающей деятельности, достигающей высшего совершенства у человека, но отчасти представленные даже у животных.
В. Вунд (2002) прямо говорит, что:
…рассмотрение сочетаний и отношений психических процессов ведет к допущению повсюдной их однородности, которая со своей стороны делает понятным развитие высших духовных функций из низших [с. 754].
И тем не менее в современных психологических теориях психические феномены по-прежнему не имеют никакой связи между собой. Каждый из них существует как бы самостоятельно. Это вызывает уже при первом знакомстве с психологией чувство неудовлетворенности и ощущение незавершенности ее теоретических построений. Например, язык и вербальное мышление рассматриваются большинством исследователей как независимый от прочего когнитивного аппарата человека модуль, развивающийся самостоятельно и вне связей с чувственным мышлением. Все психические явления: ощущения, образы, эмоции, понятия, желания – тоже рассматриваются ею как самостоятельные и никак не связанные между собой феномены. Это представляется более чем странным, так как психическая жизнь человека едина, ее явления неразрывно связаны друг с другом, вытекают из общего корня и выстраиваются в целостную последовательность психических форм. Психическая структура человека развивается в течение его жизни от простых к все более сложным психическим явлениям: от ощущений и образов к вербальным конструкциям. Все психические феномены естественным образом связаны между собой, и разделяют их лишь неадекватные представления современной психологической науки.
Несмотря на то что психология была до второй половины XIX в. неразрывно связана с философией, являясь ее частью, в XX в. она пошла «своим путем», который даже не совпадает по существу главных своих подходов с представлениями величайших умов человечества. На этом «самобытном» пути психологи ориентируются в основном на собственный «здравый смысл». Он и приводит к доминированию в психологической литературе воззрений «здравого смысла». Например, большинство психологов, видимо, даже никогда не задумывались над тем, что следует для психологии из кантовской «вещи в себе», и по-прежнему уверены, например, что образы восприятия репрезентируют максимально адекватно предметы, существующие в «объективной физической реальности».
Уверены, несмотря на то, что ни цвета, ни вкуса, ни запаха, ни тепла, например, нет в физической реальности. Данное обстоятельство не просто удивительно, а парадоксально. Как психология может игнорировать гениальные открытия великих философов прошлого, пусть они и не назывались психологами? Факт такого игнорирования трагичен. Он свидетельствует о превращении психологии из глобальной науки о пытающемся познать мир и себя в нем сознании в отраслевое, узкое научное направление, не имеющее широких мировоззренческих горизонтов.
Как совершенно справедливо говорит выдающийся американский лингвист и философ Дж. Лакофф (2004):
…философия имеет значение. Она имеет большее значение, чем думает большинство людей, потому что философские идеи, формировавшиеся на протяжении столетий, вошли в нашу культуру в виде картины мира и влияют на нас тысячами способов. Философия имеет значение для мира науки, потому что концептуальные предпосылки, на которых основываются целые научные дисциплины, обычно имеют философские корни – корни, которые уходят так глубоко, что их обычно даже не замечают [с. 211].
Современная психология не просто «оторвалась» от своих философских корней, она вообще о них забыла. Она погрязла в своих новых «специальных» вопросах, забыв, что нельзя понять человека без широкого общефилософского рассмотрения человека и окружающего его мира, без решения общефилософских, мировоззренческих проблем. Психология превращается все больше из науки о человеке, «Я» которого есть «частичка бога», в науку о суперЭВМ, называемой «человеком». Как пишет философ С. Прист (2000):
…в психологии экспериментальная психология, бихевиоризм, психология развития и когнитивная психология – все это безнадежные попытки сконструировать данную дисциплину в качестве науки. Центральные проблемы философии оказываются на пути любой научной психологии [с. 279].
Автор полагает, что наступило время для революции в психологии:
Научная революция происходит тогда, когда существующие методы решения проблем перестают работать. Она происходит тогда, когда осознается, что теперешние методы не могут даже в принципе объяснить изучаемый предмет [с. 278].
Столь же актуальны, как и в прошлом веке, слова Э. Гуссерля (2000) о том, что современная психология:
…так чужда философии, как это только возможно. Но сколько бы эта психология ни считала себя из-за своего экспериментального метода единственно научной и ни презирала «психологию письменного стола» – мнение, что она именно есть психология в подлинном смысле… должно быть признано заблуждением, влекущим за собой тяжелые последствия. …Можно даже сказать, что отношение экспериментальной психологии к подлинной психологии аналогично отношению социальной статистики к подлинной науке о социальном. Такая статистика собирает ценные факты, открывает в них ценные закономерности, но все это имеет очень косвенный характер [с. 687–688].
Дж. Лакофф (2004) применил в своей книге, посвященной философии и лингвистике, очень удобный для последующей дискуссии прием. Он формулирует в виде четких теоретических положений доминирующие в представлениях современных исследователей взгляды, которые обычно подразумеваются авторами, но тем не менее не сформулированы нигде в виде официальных концепций. Автор пишет:
Эти доктрины развивались более двух тысяч лет, и нет ни одного человека, который бы нес за них ответственность. Нельзя также обвинять людей за то, что они были воспитаны принимать эти доктрины не как мнения, но как основополагающие положения, относительно которых только и возможно было иметь те или иные осмысленные мнения. Наша задача здесь – вывести эти исходные интеллектуальные предпосылки на передний план, показать, что положения, которые принимались как самоочевидные истины, являются на самом деле дискуссионными мнениями [с. 212]. Дж.
Лакофф концептуализировал философские взгляды объективизма на мышление и язык. Я использую этот прием для рассмотрения взглядов, доминирующих в современной психологии, чтобы более четко выделить и конкретизировать проблемы, составляющие в том числе суть ее кризиса. Приведенные ниже положения разделяются большинством исследователей и принимаются ими как привычные и очевидные истины, не требующие даже специальных доказательств. В определенной степени они частично пересекаются с положениями Дж. Лакоффа, что неудивительно, так как он рассматривает доминирующие философские взгляды.
Очевидно, что взгляды, обсуждаемые мною в качестве общепринятых, совершенно не обязательно должны разделяться всеми исследователями и в полном объеме. Безусловно, многие из психологов думают иначе. Взгляды эти также далеко не исчерпывают всего многообразия доминирующих в психологической литературе представлений, однако они чрезвычайно распространены. Вот эти положения.
В этой книге я пытаюсь доказать, что перечисленные выше положения неверны. Современным психологам, как мне представляется, имеет смысл прислушаться к словам П. Фейерабенда (1986):
…одним из наиболее значительных достижений недавней дискуссии в области истории и в философии науки является осознание того факта, что такие события и достижения, как изобретение атомизма в античности, коперниканская революция, развитие современного атомизма (кинетическая теория, теория дисперсии, стереохимия, квантовая теория), постепенное построение волновой теории света, оказались возможными лишь потому, что некоторые мыслители либо сознательно решили разорвать путы «очевидных» методологических правил, либо непроизвольно нарушали их [с. 153].
Я хочу закончить главу словами Э. Гуссерля (1995), сказанными более полувека назад:
Все сильнее ощущается всеобщая потребность в реформе всей современной психологии в целом. Пока что, однако, еще немногие поняли, что психология из-за своего объективизма оказалась, так сказать, не на высоте; что она просто не способна добраться до самой сущности духа; что, выделяя психику как некий объект и психофизически перетолковывая бытие-в-общности, психология совершает нелепость. Конечно, психология работала не зря и установила множество законов, в том числе практически ценных. И все же современная психология является действительно психологией не более, чем статистика моральных поступков с ее не менее ценными данными является наукой о морали [с. 324].
Понятие модель12 является одним из наиболее часто используемых в этой книге. Идеи о том, что психическое содержание человека представляет собой модели окружающего мира, давно и активно обсуждаются в психологии. Б. М. Величковский (2006) сообщает, например, что ученик Г. Гельмгольца Г. Герц еще в 1894 г. писал:
…наш разум способен создавать динамические модели вещей и работать с ними [с. 108].
Н. А. Бернштейн (1966) тоже полагал, что:
Мозговое отражение (или отражения) мира строится по типу моделей. Мозг не запечатлевает поэлементно и пассивно вещественный инвентарь внешнего мира… но налагает на него те операторы, которые моделируют этот мир, отливая модель в последовательно уточняемые и углубляемые формы [с. 287].
Действительно, есть все основания считать, что психическое моделирование – это основной и универсальный принцип работы человеческого сознания.
Большой психологический словарь (2004) определяет модель как:
…упрощенный мысленный или знаковый образ какого-либо объекта или системы объектов, используемый в качестве их «заместителя» и средства оперирования [с. 300].
Большой толковый психологический словарь (2001) – как:
представление, которое отображает, дублирует, имитирует или некоторым образом иллюстрирует образец отношений, наблюдаемых в данных или в природе… [с. 455].
М. Вартофский (1988), углубленно занимавшийся проблемой моделей, считает, что:
…все, что угодно, может быть моделью всего, чего угодно! …Любые две вещи во Вселенной имеют некоторое общее для них свойство и… существует некоторое отношение, связывающее их между собой. …Простого выделения двух вещей, связанных между собой в некоторых релевантных аспектах, недостаточно для того, чтобы одна из этих вещей использовалась как модель другой. Чтобы это все же произошло, в дело должна вступить наша собственная познавательная деятельность, в ходе которой один объект отбирается для репрезентации другого… [с. 30–31]. …Любая сущность может рассматриваться как модель любой другой тогда, и только тогда, когда мы можем выделить общие для них релевантные свойства, то есть свойства, благодаря которым одна сущность похожа на другую [с. 34]. …Набор релевантных свойств у модели должен быть «беднее», чем у ее объекта или референта [с. 35].
Ю. А. Шафрин (1998) считает, что модель —
это некий объект, система объектов, процесс или явление, которые в том или ином смысле подобны другим объектам, системам объектов, процессам или явлениям. Не бывает модели как таковой – этот термин обязательно требует уточняющего слова или словосочетания, например модель шахматной игры, модель грозы… Моделью можно считать физическую установку, имитирующую какую-либо другую установку или процесс, юридический кодекс (уголовный, гражданский и т. д.), моделирующий правовые отношения в обществе, сборник должностных инструкций фирмы и т. п. Даже картину художника или театральный спектакль в определенном смысле можно считать моделью, обобщающей ту или иную сторону духовного мира человека. …Процесс создания (а иногда и исследования) модели называют моделированием [с. 46].
М. Вартофский (1988) пытается разобраться, что делает одну сущность моделью другой:
Может ли модель вообще быть «истинной», то есть может ли она быть истинной репрезентацией объекта? Это подводит нас к вопросу о том, что значит «быть репрезентацией». И в этой связи возникает наш основополагающий вопрос – либо некоторые вещи являются репрезентациями других вещей благодаря каким-то внутренним… свойствам, которыми репрезентация обладает по отношению к тому, что она репрезентирует, либо быть репрезентацией – это свойство, которое зависит от чего-то другого. Я считаю, что верно именно второе. …Именно мы определяем нечто как репрезентацию чего-то другого. …Репрезентацией может быть все, что таковой считается; репрезентирование – это то, что делаем мы; ничто не может являться репрезентацией, если только мы не делаем или не считаем его репрезентацией; причем оно будет именно такой репрезентацией, какой мы его делаем или считаем [с. 18].
И он прав в том, что именно человек определяет «нечто» как модель или репрезентацию чего-то другого. Репрезентацию автор рассматривает в самом широком смысле:
…как любое отражение структур на структуры или свойств на свойства [с. 36].
По его мнению:
…функции репрезентации заключаются в замещении чего-то, находящегося за ней, а не в простом обозначении этого, то есть в представлении некоторой вещи таким образом, чтобы мы смогли понять ее… [с. 18].
К моделям относят самые разные объекты. Выделяют физические модели физических же объектов (например, архитектурная модель (макет) здания, выполненная из картона), психические модели физических объектов (например, зрительный образ здания) и, наконец, психические модели психических же объектов (например, мысленное вербальное описание зрительного образа здания).
Выделение класса моделей среди прочих сущностей весьма условно и зависит исключительно от соглашения между людьми, так как та или иная сущность превращается в модель лишь в результате конвенции, договоренности, наделения ее по соглашению между людьми дополнительным качеством – быть моделью другого объекта. Никакая сущность не может быть моделью исходно, сама по себе, без участия человеческого сознания, так как способность быть моделью чего-либо присваивается объекту сознанием и существует только в нем. В физической реальности нет моделей, а есть лишь разные физические сущности, одни из которых рассматриваются сознанием и только в сознании в качестве моделей других. Именно сознание превращает, например, визуальные образы одних объектов в модели визуальных образов других объектов.
М. Вартофский (1988) отождествляет понятия модель и репрезентация. И эта его точка зрения широко распространена в литературе. Он пишет, что:
…модель рассматривается как конструкция, в которой мы располагаем символы нашего опыта или мышления таким образом, что в результате получаем систематизированную репрезентацию этого опыта или мышления как средство их понимания или объяснения другим людям [с. 11].
Мне представляется, что отождествлять репрезентации с моделями нельзя, так как репрезентация13 – это отнюдь не всегда модель. Модели и репрезентации создаются сознанием для решения разных задач. Модель всегда создается человеком произвольно и целенаправленно с познавательными, демонстрационными, исследовательскими и другими целями. Тогда как психическая репрезентация обычно возникает спонтанно, самостоятельно и непроизвольно, то есть без целенаправленного участия в этом процессе человеческой воли. К психическим репрезентациям относятся все наши психические явления, которые репрезентируют нам, например, окружающий мир и нас самих в нем. Их можно назвать «естественными» психическими репрезентациями.
Физические репрезентации, которые тоже широко обсуждаются в литературе и рассматриваются часто как знаки, во многом сходны с моделями в силу того, что, как и модели, выполняют функции замещения основного объекта. В случае физических репрезентаций один физический объект замещает собой другой, представляет или олицетворяет его в сознании людей. Например, вино во время причащения – кровь Христа, хлеб – его тело, белая фата – чистоту и невинность невесты, красный крест – медицинскую помощь и т. д. Физический объект может репрезентировать в сознании даже что-то гораздо более сложное, чем просто другой физический объект. Так, крест, например, является репрезентацией христианства и христианской церкви.
Надо признать, что в литературе существует множество самых разных, в том числе не согласующихся между собой представлений о том, что такое репрезентации, какие репрезентации бывают и как они соотносятся между собой. То же самое, хотя и в меньшей степени, касается психических моделей.
Тем не менее можно заметить, что психическая модель – это всегда психическая сущность, произвольно выбранная и «назначенная» нами заместителем, заменителем другой психической сущности. М. Вартофский (1988) тоже отмечает, что:
модели – это преднамеренно создаваемые конструкции… [с. 60].
Когда мы говорим о психической модели, то всегда имеем дело с осуществленной произвольно и с определенной целью подменой одной сущности, чем-то уже представленной в сознании (например, чувственным образом), другой сущностью, тоже как-то уже представленной в сознании (например, другим чувственным образом или понятием). Например, понятие Эйфелева башня – это вербальная модель визуального образа Эйфелевой башни, а понятие Московский Кремль – модель (заместитель, заменитель) визуального образа Московского Кремля.
М. Вартофский полагает, что и психические репрезентации являются моделями внешнего мира. Однако следует сказать, что отношения между репрезентациями и внешним миром гораздо более сложные и непонятные, так как репрезентации чаще не столько моделируют мир, сколько являются единственно доступной для нас формой его существования. Более того, репрезентации, создаваемые сознанием, могут представлять нам то, что просто отсутствует в окружающем мире и в качестве сущностей конституируется самим сознанием, то есть психические репрезентации в рассматриваемом случае являются тем, что наличествует изначально лишь в сознании и только в виде самих этих репрезентаций. Такого рода психические репрезентации, в принципе, не могут отождествляться с моделями, так как модели всегда моделируют нечто, хоть как-то уже представленное в сознании.
Таким образом, психическая репрезентация – это часто не столько подмена в сознании одной психической сущности другой (образа восприятия объекта понятием, обозначающим объект, например), сколько представление в сознании в форме особого психического явления (образа восприятия, например) некоего неясного, непонятного и недоступного сознанию никак иначе элемента физической «реальности в себе». Так, визуальные образы Эйфелевой башни или Московского Кремля репрезентируют некие «вещи в себе», которые только так и могут быть представлены в человеческом сознании в зрительной модальности. Эти репрезентации поэтому нельзя называть моделями, так как в физической реальности нет в аналогичном виде того, что они, как принято считать, моделируют в сознании.
Правильнее сказать, что психические репрезентации не моделируют, а первично конституируют и представляют в сознании то, что существует в физической реальности в недоступной нашему сознанию форме «вещей в себе». Следовательно, чувственная репрезентация – это всегда единственная возможность представительства в сознании предмета или явления, который для человека никак иначе не существует и в его сознании не представлен, а в физическом мире в такой форме вовсе отсутствует.
Итак, психические репрезентации – это часто единственные формы существования многих недоступных никак иначе субъекту сущностей. Вместе с тем психические репрезентации, например чувственные образы и понятия, сильно различаются между собой по механизмам своего возникновения, причем понятия можно даже рассматривать как психические модели соответствующих чувственных психических репрезентаций.
М. Вартофский (1988) полагает, что слово «репрезентация» означает для обычного человека:
…во-первых… отношение «похожести» или «сходства», благодаря которому в одной вещи легко угадывается сходство с другой; и, во-вторых… что одна из вещей может в определенных аспектах «замещать», «представлять» или «репрезентировать» другую [с. 58].
Однако сказанное неприменимо к большинству «естественных» психических репрезентаций. Нельзя говорить об их сходстве или несходстве с репрезентируемыми ими объектами. Например, в психическом восприятии ощущения цвета, репрезентирующем электромагнитные волны определенной длины, и в самих этих волнах невозможно найти нечто «похожее». Трудно обнаружить, например, и сходство между ощущениями тепла или шероховатости объекта, с одной стороны, и сущностью этого объекта – с другой.
М. Вартофский (1988) пишет:
…даже в том случае, когда мы говорим, что модель есть лишь средство воображения, помогающее нам представить, изобразить или понять, что происходит, например, когда мы формируем схематическую модель некоторого сложного организма или строим модель-прототип чего-то такого, что мы намереваемся в дальнейшем реализовать, – то это само по себе уже достижение. В этом смысле модель есть создание чего-то, действующего в направлении будущего, нечто такое, что в момент создания модели или рассмотрения ее еще не достигнуто [с. 125].
Автор обсуждает здесь процесс создания новой сущности, процесс творчества. Моделирование же – это замена одной известной уже сущности другой. Если сознание создает произвольно новую психическую конструкцию, которая репрезентирует некую новую сущность, то это уже не моделирование. Созданной заново и тем самым уже репрезентированной в сознании в виде конкретных психических явлений сущности нет в физическом мире. Можно сказать, что естественная психическая способность человека к моделированию окружающей реальности трансформируется в процессе его развития в новую способность – конструировать новые сущности физической и психической реальности и репрезентировать их в своем сознании.
Созданные сознанием психические конструкции, репрезентирующие, например, недоступную восприятию физическую реальность, не являются моделями в истинном смысле, так как далеко не всегда ясно, что же они «моделируют» на самом деле и моделируют ли вообще. Часто такие репрезентации являются лишь умозрительными конструкциями, представляющими сознанию недоступные и непонятные никак иначе аспекты физической реальности. Некоторые такие психические конструкции, возникнув первоначально в сознании, затем могут быть воплощены в искусственной физической реальности в виде, например, модели атома из проволочек и шариков, или фильма про «жизнь после смерти», или множества полезных физических устройств и приборов.
Формой психических репрезентаций являются и вербальные14 конструкции. Однако их же можно рассматривать и как модели чувственных репрезентаций. М. Вартофский (1988) пишет, например:
…сам язык является моделью… [с. 63].
Любое предложение, которое можно рассматривать как дескриптивное (описательное. – Авт.), является моделью того, о чем говорится в этом предложении: оно является репрезентацией своего референта, то есть репрезентацией определенного положения дел. …Все языковые высказывания – это дескриптивные предложения в той степени, в какой они вообще являются лингвистическими сущностями… Предложение «Стул стоит на столе», очевидно, можно рассматривать с различных точек зрения в разных теориях языка, но, несомненно, что это – «картина», и с этим трудно спорить. …Данное предложение – модель, если для меня или для вас оно репрезентирует определенное состояние дел [с. 38].
Автор подчеркивает здесь важный факт – языковые конструкции тоже являются моделями реальности. Неважно какой: окружающей нас, прошлой, будущей, возможной, альтернативной, фантастической и т. д. Он продолжает:
…возьмем восклицание «Ай!» или любое повелительное, эмотивное, экспрессивное высказывание – весь этот немыслимый зоосад якобы недескриптивных утверждений. …Я утверждаю, что это высказывание («Ай!» – Авт.) истинно или ложно и что оно имеет референт. То есть что оно с очевидностью соотносится с некоторым состоянием дел, а именно с тем, что мне больно [с. 38].
…можно говорить о континууме от мельчайших лингвистических выражений до грандиозных теоретических научных конструкций. …Мы начинаем создавать модели с наших первых мимических актов и с первого опыта языкового общения и продолжаем создавать их посредством использования того, что, опираясь на разные основания, называют аналогиями, метафорами, гипотезами, теориями [с. 40].
«Теория», «гипотеза», «модель», «аналогия» – все это, на мой взгляд, «особи» одного рода, который я называю репрезентацией [с. 57].
Все лингвистические высказывания являются моделями, репрезентациями фактов или предполагаемыми фактуально истинными дескрипциями (и наоборот, все модели являются в той или иной форме лингвистическими высказываниями, используемыми для сообщения фактуально истинных дескрипций) [с. 39].
Итак, понятие психическая репрезентация обозначает, во-первых, психические явления или совокупности психических явлений, представляющих в сознании разнообразные физические сущности, их свойства, действия, состояния, отношения и т. д. Например, зрительный образ стола репрезентирует объект «стол», образы разных красных объектов репрезентируют свойство объектов – их красный цвет, а пропозиция альфа-самец репрезентирует такую сложную физическую сущность, как «самец, занимающий верхнюю позицию в иерархии доминирования стада» [Большой толковый психологический словарь, 2001, с. 36]. Во-вторых, психические явления или совокупности психических явлений, которые представляют в сознании другие психические явления или совокупности психических явлений.
Например, образ воспоминания или представления репрезентирует прошлый образ восприятия, понятие репрезентирует визуальный образ, эмоцию, психическое состояние и др. На протяжении дальнейшего изложения мы еще не раз будем возвращаться к проблеме психических моделей и репрезентаций.
Наиболее удачным мне представляется следующее определение феномена:
Феномен (греч… «являющееся»). …Согласно традиции, восходящей к древнегреческой философии… под феноменом понимают данное в чувственном опыте явление вещи… которое подразумевает стоящую за ним сущность, недоступную чувствам и раскрываемую только в ходе… особого познания или же… непознаваемую. …В Новое время (у Локка, Беркли и Юма) появляется психологическое понятие феномена (явления). Феномен начинает мыслиться как данность сознанию во внешнем или внутреннем опыте ощущения, «идеи», перцепции. …По Канту, феномен – это предмет… явление вещи в доступных нам формах чувственного созерцания. …Феномену противопоставляется непознаваемый трансцендентный ноумен, то есть «вещь сама по себе» [Словарь философских терминов, 2004, с. 614].
И. Кант (1994) рассматривает феномены как чувственно воспринимаемые объекты или явления. Явление же для него – упорядоченная совокупность ощущений. Он пишет:
Явления, поскольку они мыслятся как предметы на основе единства категорий, называются phaenomena. …Вещи… как предметы рассудка, которые… могут быть даны в качестве предметов созерцания, хотя и не чувственного… можно называть noumena [с. 515–516].
Основоположник современной философской феноменологии Э. Гуссерль (2005) пишет:
…психологию называют наукой о психических, естествознание – наукой о физических «явлениях», или феноменах… в истории… говорят об исторических, в науке о культуре о культурных феноменах… Сколь бы различными ни был во всех таких речах смысл слова «феномен»… феноменология (имеется в виду феноменология Гуссерля. – Авт.) сопрягается со всеми этими значениями, однако при совершенно иной установке, посредством которой… модифицируется любой смысл «феномена»… В феноменологическую сферу он и вступает не иначе как модифицированный [с. 243].
Действительно, автор понимает феномен весьма специфично и заявляет о своем отказе рассматривать феноменологию «как нижнюю ступеньку эмпирической психологии». В. Вольнов (2008), рассматривая его позицию, тем не менее замечает:
Хотя Гуссерль называет свое учение феноменологией, понятие «феномен» так и остается у него неопределенным. Определенно можно сказать лишь одно: под феноменом Гуссерль понимает так называемые феномены сознания. …Отождествление феноменов с феноменами сознания Гуссерль унаследовал от Канта [с. 8].
Автор спрашивает:
Неужели не бывает феноменов помимо феноменов сознания? [С. 9.]
Феномены в понимании Э. Гуссерля – все же далеко не просто феномены сознания, по крайней мере вовсе не то, что рассматривает в качестве таковых классическая психология. Прочие исследователи относят к феноменам разный круг явлений. Одни исследователи сужают понятие феномен и, рассматривая его в плоскости сознания, отождествляют с психическим явлением:
Феномен – явление, данное нам в опыте чувственного познания, в отличие от ноумена, постигаемого разумом и составляющего основу, сущность феномена [Философский энциклопедический словарь, 1998, с. 477].
Другие расширяют его, отождествляя с тем, что репрезентируется этими психическими явлениями:
Феномен. 1. В переводе с греческого означает явление, то, что появляется, следовательно, любое заметное изменение, любое явление, доступное для наблюдения. Это значение является очень общим и содержит два аспекта, каждый из которых представлен в следующих более ограниченных значениях. 2. Физическое явление, факт, подтвержденное событие… 3. Внутренний опыт, который сознается, данные личного опыта. Это значение отражено в позиции феноменологии. 4. В терминах Канта – проявления знаний, событий или объектов, интерпретируемые через категории… [Большой толковый психологический словарь, 2001а, с. 414–415].
Е. Е. Соколова [2005, с. 13–22], например, выделяет шесть групп феноменов: сознательные и бессознательные психические явления, формы поведения, феномены общественных отношений, предметы материальной и духовной культуры и даже психосоматические явления. Такой расширительный подход, конечно, неприемлем, хотя бы в силу несопоставимости включаемых в эту классификацию сущностей, например сознательных психических явлений и предметов культуры. Кроме того, все без исключения перечисленные предметы, формы, отношения и даже сами психические явления репрезентируются в сознании человека в форме сознательных психических явлений, а потому могут и должны первично рассматриваться только в виде явлений или феноменов сознания.
Лично я пониманию феномен исключительно в психологическом, а не в философском смысле, как любое явление человеческого сознания: образ, ощущение, эмоцию, побуждение, даже вербальную конструкцию и др., как все то, что человек способен обнаруживать в своем сознании в процессе интроспекции и переживать. Психическое явление – то, что возникает в человеческом сознании. Следовательно, психическое явление – синоним психического феномена.
Обсуждая понятие феноменология15, Ж.-Ф. Лиотар (2001) замечает:
Этот термин означает исследование «феноменов», то есть того, что является в сознании, того, что «дано» [с. 7].
Я называю феноменологией учение о психических феноменах, или явлениях, и рассматриваю ее как раздел психологии. Как следует из сказанного, такая феноменология совершенно отлична, например, от феноменологии Э. Гуссерля и от других вариантов философской феноменологии, с которыми ее даже невозможно соотнести. Э. Гуссерль (2005) пишет, что его феноменология:
…это не психология, и что причисление ее к психологии исключается не какими-либо случайными разграничениями области и терминологически, но принципиальными основаниями [с. 19].
Он [2005, с. 20–21] справедливо указывает, что психология – это наука о «фактах» и «реальностях», тогда как «чистая трансцендентальная феноменология» – это наука, которая занимается «ирреальными феноменами». Редукция, которой подвергает психологические феномены автор, «очищает» их от того, что придает им реальность и включенность в реальный мир (там же). Более того, автор прямо говорит:
Охотнее всего я исключил бы обремененное тяжким грузом слово реальное, если бы только представилась какая-либо подходящая замена ему [с. 24].
Я же, напротив, рассматриваю реальные феномены нашей психики. Если Э. Гуссерль совершенно оправданно отказывался рассматривать свою феноменологию «как нижнюю ступеньку эмпирической психологии», то я именно так и рассматриваю собственные взгляды, излагаемые в данной книге. В то же время мне представляется, что психология и философия неразрывно связаны, поэтому предлагаемая мной психологическая феноменология не может остаться в стороне от философии.
Феномены – непосредственно данные нам явления нашего сознания, соответственно, феноменология, представленная в этой книге, – это рассмотрение данностей нашего сознания, описание его явлений и изучение того, что они собой представляют и как видоизменяются во времени.
В соответствии с гуссерлианской традицией феномены должны рассматриваться исследователями без учета каких-либо даже самых базовых вербальных знаний о них. Однако наше сознание устроено таким образом, что нам не удастся ничего описать и изучить, предварительно не поняв хотя бы как-то изучаемый феномен, то есть не смоделировав его с помощью других, как правило, вербальных феноменов нашего сознания. Феноменологический метод, который предложил и использовал Э. Гуссерль, Ж.-Ф. Лиотар (2001) описывает так:
Нужно предоставить, без всяких предпосылок, кусочек воска самому себе и описать его так, как он себя дает [с. 7].
Тем не менее для того, чтобы описать кусочек воска, о котором говорит Ж.-Ф. Лиотар, надо предварительно выучить слова, то есть усвоить весь «багаж», созданный предшествующими поколениями, а это усвоение радикально изменит воспринимаемый и описываемый нами кусочек воска. Именно поэтому в психологической феноменологии невозможна гуссерлианская редукция.