 ОГЛАВЛЕHИЕ
ОГЛАВЛЕHИЕ  >>>
>>>Принято считать, что логика – это «наука о законах и операциях правильного мышления» [А. А. Ивин, 1999, с. 9], «о формах, законах и методах познавательной деятельности; способность правильно (логически) мыслить» [Новейший философский словарь, 1998, с. 371]. Она «служит повышению формальной точности сознания и объективности содержания мышления и познания» [Философский энциклопедический словарь, 1998, с. 245]. Общепринято, что:
…логика изучает законы правильного мышления… Свойства самой мысли и те условия, которые мысль должна соблюдать, чтобы быть правильной [М. С. Строгович, 2004, с. 15].
Формальная логика является «важнейшим и наиболее зрелым разделом логики» [А. А. Ивин, 1999, с. 372]. Она получила свое наименование от предмета, которым занимается, – «форм мыслей и рассуждений», обеспечивающих получение новых истин на основе уже установленных, а также критериев правильности и обоснованности этих форм. В науке тысячелетиями поддерживалась претензия логики на раскрытие и обучение людей некоему необходимому и правильному102 мышлению.
Большинство авторов полагают, что:
…познающее мышление… подчинено некой принудительной силе, его результаты во многом детерминированы и предопределены [Новейший философский словарь, 1998, с. 371].
Предопределены они «предшествующим знанием», а также тем, что:
…достоверность результатов различных по содержанию рассуждений зависит не только от истинности исходных положений (посылок), но и от отношений между ними, способа их соединения, то есть от формы рассуждения [там же].
Не только в логике и философии, но и в естествознании, и даже психологии общепринято, что логика имеет самое непосредственное отношение к мышлению. Дж. Андерсон [2002, с. 304] указывает, что до ХХ столетия логика и мышление часто считались одним и тем же. Н. Смит [2003, с. 93] сообщает, что известный ирландский математик Джордж Буль назвал в 1854 г. свою книгу по логическому исследованию, содержавшую описание двоичной алгебры, «Исследования законов мышления». Эта книга предназначалась, «прежде всего, чтобы исследовать фундаментальные законы тех умственных операций, с помощью которых осуществляются умозаключения». Абсолютное большинство исследователей не сомневаются в том, что логика не только имеет непосредственное отношение к мышлению, но и определяет, правильно ли оно.
Э. Гуссерль (2000), например, пишет:
Она (логика. – Авт.) должна нас научить правильному, то есть согласующемуся с самим собой пользованию разумом [с. 67].
Историческое заблуждение по поводу того, что логика якобы может научить нас «правильному пользованию разумом», до сих пор существует и процветает не только в науке вообще, но и в психологии. За две с лишним тысячи лет сложилось всеобщее ошибочное убеждение, что логика не просто занимается изучением мышления, а обеспечивает его, так как:
…ее (логики. – Авт.) законы лежат в основе нашего мышления… Всякое движение мысли, постигающей истину и добро, опирается на эти законы и без них невозможно [с. 3].
Считается103 чем-то само собой разумеющимся и не требующим доказательств, что:
Так ли все это на самом деле?
Логика утверждает, что существуют логические законы, или законы мышления, которые:
…присущи человеческому мышлению, так как представляют собой отражение в сознании человека определенных свойств и сторон объективной действительности [М. С. Строгович, 2004, с. 14].
Эти законы:
…необходимо соблюдать, чтобы мышление было правильным. …Таких основных законов мышления четыре: 1) закон тождества, 2) закон противоречия, 3) закон исключенного третьего и 4) закон достаточного основания [М. С. Строгович, 2004, с. 26].
Первые три закона были сформулированы Аристотелем, четвертый – Лейбницем.
Закон тождества гласит:
В процессе определенного рассуждения всякое понятие и суждение должны быть тождественны самим себе. …В процессе рассуждения нельзя подменять одну мысль другой, одно понятие другим [А. Д. Гетманова, 2007, с. 122].
Закон противоречия (или закон непротиворечия):
…высказывание и его отрицание не могут быть вместе истинными [А. А. Ивин, 1999, с. 160].
Закон исключенного третьего:
…из двух противоречащих высказываний одно является истинным [А. А. Ивин, 1999, с. 163].
Закон достаточного основания:
…всякая истинная мысль должна быть достаточно обоснованной [А. Д. Гетманова, 2007, с. 135].
Задам, однако, крамольный вопрос: имели ли исходно приведенные «законы мышления» вообще отношение к мышлению? Логик М. С. Строгович (2004) пишет:
Логика на самом первом этапе своего возникновения создавалась как практическое руководство для ведения споров, дискуссий, полемики [с. 18].
При споре по поводу любого предмета все время должен иметься в виду один и тот же предмет… Любое обсуждение, любой спор своим необходимым условием имеет точное установление предмета спора, обсуждения [с. 27].
Е. Ю. Леонтьева [2006, с. 45], в частности, говорит об особом отношении греков к слову, так как именно в публичных выступлениях, прениях, дружеских обсуждениях проводили много времени свободные граждане полисов. Она цитирует Ф. Ж. Салазара, который полагает, что современная западная культура:
…восходит… именно к культуре устной речи, когда умелое пользование словом обеспечивало и социальный престиж, и власть [с. 46].
Е. Ю. Леонтьева (2006) добавляет:
Слово не только управляло его (древнего грека. – Авт.) жизнью, но и могло решить судьбу, когда последняя определялась качеством речи выступающего в защиту или в обвинение того или иного поступка. Теперь уже зарождается интерес к самим словам, к правилам их формирования в предложения и их построения. Значимой становится не столько мысль, сколько форма ее выражения, возникает тенденция к выявлению и познанию этих форм (курсив мой. – Авт.) [с. 48].
Приведенные высказывания проясняют ситуацию и позволяют ответить на мой последний вопрос. Логика поначалу предназначалась совсем не для того, чтобы «учить правильному мышлению», а для того, чтобы учить правильно вести дискуссию, спор, что совсем не одно и то же.
М. С. Строгович (2004) делает неожиданное признание:
…различие между логикой и психологией заключается в том, что… они изучают разные законы. …Мышление рассматривается и изучается психологией как явление душевной жизни… Логика изучает законы правильного мышления, то есть такие законы, которые обеспечивают правильность выражения и развития мыслей… Логика формулирует такие законы мышления, которые необходимо соблюдать для того, чтобы мышление было правильным… [с. 17].
Отвлечемся ненадолго от логики и поговорим о психологии мышления. Насколько человек способен управлять своим мышлением? Несмотря на то что механизмы мышления еще слабо изучены, интроспекция с очевидностью демонстрирует, что мы не можем управлять возникновением собственных мыслей, то есть мысли появляются в нашем сознании непроизвольно, независимо от нашей воли. Они просто возникают как бы ниоткуда. Мы же способны лишь удерживать какую-то тему в виде образа, понятия, идеи, вокруг которых в нашем сознании спонтанно возникают ассоциации. Следовательно, наши возможности управления собственным мышлением весьма ограниченны. Поэтому утверждения о том, что мы можем и тем более должны следовать каким-то законам, выстраивая собственное мышление, которое нам не очень-то и подчиняется, выглядят довольно странно.
Вместе с тем в процессе создания собственных языковых конструкций мы действительно способны перестраивать собственные вербальные конструкции, а это уже, безусловно, вербальное мышление (или размышление). Мы тщательно и придирчиво рассматриваем возникшие непроизвольно в нашем сознании идеи, заменяем в них одни понятия другими или «включаем» процесс создания новых мыслей и выстраиваем из них новые вербальные конструкции. Тем не менее само возникновение в нашем сознании мыслей не подчиняется нашему произвольному контролю. Мы, по сути дела, можем лишь менять, пересматривать и переделывать результаты собственного мышления. Следовательно, у нас есть все основания разделить собственное мышление на два процесса: 1) протекающий вне сознания, а потому недоступный нашему произвольному регулированию, биологически детерминированный процесс, заканчивающийся появлением в сознании конструкций из невербальных и вербальных образов; 2) протекающий в нашем сознании, произвольный процесс рассмотрения, оценки и отбора понятий и вербальных конструкций среди возникших в сознании.
Первый процесс идет практически постоянно, когда мы бодрствуем. Второй же включается только тогда, когда мы специально обдумываем какую-то проблему и хотим получить то, что принято называть «решением». Если присутствует второй, процессы эти протекают параллельно. Второй использует результаты первого и сам неясным образом стимулирует первый. Обычно наше решение – это новая вербальная модель той или иной части окружающей нас или вымышленной реальности, которая делает для нас понятной ее структуру или изменения, протекающие или возможные. Логика может принимать участие только во втором процессе, так как лишь он сознателен и только в него мы можем произвольно вмешиваться.
Вместе с тем мне, как психиатру, очевидно, например, что в результате первого, биологически детерминированного процесса построения вербальных конструкций в сознании у психически здоровых людей возникают вербальные конструкции или идеи, полностью соответствующие тому, что называют «логическими законами». Появляющиеся в сознании в норме вербальные конструкции адекватно моделируют окружающую реальность, в них используются понятия, тождественные самим себе («закон тождества»), не используются взаимоисключающие понятия и конструкции («закон непротиворечия»), возникающие вербальные конструкции обоснованны и последовательны («закон достаточного основания») и т. д.
Если же в мышлении человека появляются «подмены понятий и суждений» и он начинает считать одновременно истинными два исключающих друг друга суждения, если его мысли становятся «недостаточно обоснованными» (то есть непоследовательными, разорванными, паралогическими104), то речь уже идет не просто о том, что его мышление «становится нелогичным», так как не соответствует «логическим законам», а о том, что оно становится болезненно измененным, например шизофреническим. И здесь нет других вариантов, так как нормальное мышление репрезентирует окружающую реальность только адекватно, непротиворечиво и последовательно.
Другое дело, если мы обсуждаем языковую «продукцию» людей – их высказывания и тексты. Вот она-то даже у формально здоровых людей часто не соответствует не только логическим законам, но и даже вообще «здравому смыслу». Сказанное заметил, кстати, еще Р. Декарт (1989), который, обсуждая один из аспектов нормального мышления, пишет:
…дедукция же или чистый вывод одного из другого… никогда не может быть неверно произведена разумом, даже крайне малорассудительным [с. 81].
Он считает, что заблуждения, в которые впадают люди, никогда не проистекают из неверных выводов, а являются следствием «малопонятных данных опыта» или «опрометчивых и безосновательных» суждений.
Итак, хотим мы подчиняться «логическим законам мышления», «которые необходимо соблюдать, чтобы мышление было правильным», или нет, оно – наше мышление, – пока мы психически здоровы, создает вербальные конструкции в соответствии со своими внутренними законами, не имеющими отношения к законам логики, сконструированным людьми. И биологически детерминированный процесс мышления вне зависимости от наших желаний или нежеланий в норме приводит к появлению в сознании адекватных, последовательных, непротиворечивых и т. д. вербальных конструкций, которые соответствуют «логическим законам».
Таким образом, мы, во-первых, не в силах заставить на этом этапе свое мышление следовать каким-то законам, установленным логиками. Во-вторых, нам и нет никакой необходимости соблюдать эти «логические законы мышления», потому что естественное нормальное мышление по своей природе способно создавать только логичные, то есть адекватные реальности невербальные и вербальные репрезентации.
Повторюсь, что все сказанное касается лишь процесса появления мыслей, в том числе вербальных, в нашем сознании. Можно предположить, что этот биологически детерминированный процесс направлен на формирование максимально адекватных репрезентируемой реальности, максимально соотносимых с ней ее моделей, причем как чувственных, так и вербальных. Именно поэтому он независим от нашей воли, а возникающие вербальные конструкции, как и чувственные модели окружающего мира, по определению не могут не быть адекватными, то есть они всегда последовательны, непротиворечивы, в них используются тождественные самим себе понятия. То, что непроизвольно возникающие в нормальном сознании вербальные конструкции исходно соответствуют «логическим законам», неудивительно, так как логические законы выводились здоровыми людьми, мышление которых было поэтому последовательным, непротиворечивым и правильным, то есть «нормальным». И на основе своего нормального, непротиворечивого и эффективного мышления они выстраивали затем свои языковые конструкции и логические законы построения этих конструкций.
Какую же роль логика играет во втором процессе сознательного и произвольного построения нами вербальных конструкций? Действительно ли формирование последних осуществляется нами в соответствии с логическими законами, как принято считать?
Имеет смысл попытаться разобраться в том, как действуют эти логические законы. Мы знаем, что если закон имеет отношение к внешнему миру, как, например, физические законы Ньютона, то он действует независимо от нашей воли. Если же закон касается каких-то социальных аспектов поведения (не укради, не лги и т. д.) или, как в данном случае, логических правил построения нами собственных мысленных конструкций, то, чтобы выполнять этот закон, мы должны его знать. Следовательно, если логические законы функционируют как физические, то есть независимо от человеческого сознания, то бессмысленны разговоры о том, что мы должны следовать им и выстраивать свое мышление в соответствии с ними. Если же они сродни социальным законам, то мы должны их выполнять сознательно. Но мы не можем их выполнять, если не знаем их наизусть, а люди в абсолютном большинстве не знают законов логики. И тем не менее, по мнению логиков, чтобы мышление было «правильным и логическим», человек должен знать и выполнять эти законы.
Очевидно, однако, что по крайней мере дети и необразованные люди уж точно не знают законов логики и не могут, соответственно, их выполнять. Тем не менее нельзя сказать, что их мышление становится от этого неадекватным и нелогичным. Мне могут сказать, что и детям, и необразованным взрослым логические законы известны имплицитно, так как они «пронизывают» всю объективную психическую реальность. Допустим, что это так и есть. Давайте все же разберемся в том, что представляет собой на практике следование логическим законам и алгоритмам.
Начнем с рассмотрения того, что принято называть логическим алгоритмом105. Наиболее известным логическим алгоритмом построения языковых конструкций, который лежит в основе всей логики, является формальный силлогизм106. А. Р. Лурия [2005, с. 316] пишет о том, что в ходе культурного развития возникает способность делать выводы из силлогизмов, в которых ряд частных суждений ведет к объективно новому заключению. Два предложения, первое из которых дает общее утверждение, а второе – специфическое утверждение, представляют собой большую и малую посылки силлогизма. Взрослый образованный западный человек воспринимает эти посылки не как две отдельные фразы, а как некую логическую связь, ведущую к выводу. Приверженцы Вюрцбургской психологической школы, например, даже говорили об особых «логических ощущениях», которые якобы присущи человеческому сознанию.
На самом деле формальная логика, позволяющая нам вывести умозаключение из двух посылок, представляет собой лишь схему действий, созданную два с половиной тысячелетия назад Аристотелем. Эта схема, или вербальная психическая конструкция, предписывает определенный порядок действий, которого необходимо придерживаться при построении новой языковой конструкции – умозаключения на основе двух других известных языковых конструкций – суждений. Последние являются, как правило, описательными конструкциями, содержащими общий элемент. За тысячи лет своего существования схема Аристотеля стала настолько важным элементом объективной психической реальности западного мира, что западный менталитет считает ее очевидно истинной и чуть ли не присущей окружающему миру в силу особенностей устройства последнего. Она, действительно, подспудно присутствует в учебниках начальной школы, даже не имеющих вовсе никакого отношения к логике. Образованные люди привыкли считать следование ей в своих рассуждениях проявлением собственного высокого интеллектуального развития и особенностью своего мышления, недоступной для менее развитых и образованных людей. А. Р. Лурия [1998, с. 335–336] приводит результаты исследований, проведенных им в 1930–1931 гг. в Средней Азии. Из них следует, что местные жители, не имевшие образования, были не в состоянии сделать вывод из формальных посылок:
На Дальнем Севере, где круглый год снег, все медведи – белые. Место N. на Дальнем Севере. Медведи там белые или нет?
Для ответа обследуемые привлекали свои знания реальности:
Я там не был и не знаю; я обманывать не хочу…
Те же, кто получил какое-то образование, могли сделать логический вывод достаточно легко.
Исследования А. Р. Лурия подтверждают данные других авторов о том, что неграмотные испытуемые не видят логической связи между частями силлогизма. Мне думается, в этом и нет ничего удивительного, так как люди, совершенно незнакомые с формальной логикой, воспринимают разные посылки как вербальные модели реальности, не связанные между собой. Им не представляется естественным и необходимым, что из самого факта существования этих двух часто не связанных с окружающей их реальностью и порой даже просто нелепых вербальных конструкций должна вытекать еще какая-то третья. Тем более якобы бесспорно достоверная. Лишь люди, знакомые с созданными Аристотелем правилами, способны вывести из двух известных посылок третью.
Испытуемые в процессе экспериментов не воспринимали посылки в качестве достоверных моделей реальности, что вполне естественно и неудивительно, учитывая, что им предлагались совершенно отвлеченные посылки. Сам А. Р. Лурия, кстати, отмечает, что испытуемые чувствовали недоверие к первоначальным посылкам, не основанным на их личном опыте, и не использовали их. Посылки воспринимались испытуемыми как утверждение, отражающее лишь единичный случай. В итоге силлогизмы распадались у испытуемых на три изолированных высказывания, не объединенных единой логикой.
Аналогичное исследование описывают М. Коул и Сильвия Скрибнер [1977, с. 198–199]. Вождю африканского племени кпелле в Либерии было предложено ответить на вопрос:
Паук и черный олень всегда едят вместе. Паук сейчас ест. Ест ли сейчас черный олень?
Вождь не смог дать ожидаемый исследователями логически правильный ответ.
Исследуя студентов Московского университета, Р. Л. Солсо [1996, с. 452] предлагал им сходную задачу:
Иван и Борис всегда едят вместе. Борис сейчас ест. Что делает сейчас Иван?
В соответствии с данными автора, 80 % испытуемых тоже не смогли сделать формальные выводы из логических посылок. Обсуждая результаты исследований М. Коула и Сильвии Скрибнер и своих собственных исследований, Р. Л. Солсо [1996, с. 452–453] пишет, что в высокоиндустриальных западных обществах люди приучены подтверждать высказывания, касающиеся реальности, при помощи пропозициональных репрезентаций, тогда как в менее индустриальных обществах, где люди живут «ближе к земле», доказательства больше связаны с непосредственным чувственным впечатлением. По его мнению, подобное «земное» рассуждение способно приводить к здравым заключениям, несмотря на то что ответы на вопросы, требующие абстрактного рассуждения, получаются не совсем те, что имеют в виду западно-ориентированные психологи.
При этом автором не обсуждается то обстоятельство, что, например, посылка «Паук и черный олень всегда едят вместе» для вождя племени из Либерии не имеет смысла и никак не соотносится с его жизненным опытом, а потому непривычна и малоактуальна для него. Не обсуждается также и то, что для построения логического умозаключения всем испытуемым надо твердо знать аристотелевский алгоритм построения вывода – итоговой вербальной конструкции, то есть человека следует этому всего лишь предварительно обучить. Что касается результатов исследований студентов МГУ, то, возможно, дело в методике эксперимента. В том, что испытуемые, например, избегали очевидного ответа как слишком простого.
Никто из авторов не рассматривал влияние логики как таковой на познание, а потому и не обратил внимания на самое замечательное и важное обстоятельство, обнаружившееся в перечисленных исследованиях: несмотря на то что испытуемые не могли пользоваться логическим силлогизмом, так как не владели логикой вообще, они были великолепно адаптированы в окружающем мире. Незнание логических законов и невозможность пользоваться ими никак не мешали испытуемым успешно жить и эффективно мыслить. Данное обстоятельство однозначно опровергает все утверждения логиков об исключительном доступе к правильному и логическому мышлению только тех, кто владеет логическими законами и следует им в своем мышлении.
Возникает резонный вопрос: а зачем человеку в его практической жизни эти в общем-то бесполезные умозрительные логические конструкции, которые ошибочно расцениваются западными исследователями как «способность к абстрактному мышлению», тем более что они не могут помочь ему в создании новых адекватных моделей окружающего мира?
С помощью логических конструкций Аристотеля нельзя получить новой достоверной модели реальности. Еще Дж. С. Милль [цит. по: Г. Гельмгольц, 2002, с. 40] показал, что формальная логика не дает нам ничего такого, чего бы мы не знали раньше, если большая посылка не навязана нам каким-либо авторитетом, потому что сама большая посылка – это уже обобщающий вывод, включающий в себя наше будущее умозаключение по определению.
Для познания окружающего мира схема Аристотеля неэффективна, так как в «естественных» вербальных конструкциях, являющихся моделями окружающего мира, всегда высок элемент неопределенности. Формальная же логика должна исходить из жестких постулатов: «Если верны посылка 1 и 2, то…». А вот с этим-то «если» в реальном познании нового как раз всегда есть проблемы, поэтому новые модели строятся не путем логических рассуждений, а путем мысленного перебора возможных моделей: «Что будет, если мы сделаем так? – То и то. А если так? – Это. А если эдак? И. т. п». Выводы, которые нам постоянно приходится делать в повседневной жизни, мы делаем, исходя не из двух посылок, а из множества посылок, и не жестко определенных, а лишь вероятно возможных. Только тогда эти выводы более или менее адекватны реальности. Аристотелевский силлогизм, да и в целом формальная логика, поэтому малопродуктивны в реальной жизни, и люди легко обходятся без них на практике.
Самим логикам очевидно, что люди мыслят не в соответствии с алгоритмом формальной логики, но логиков это не смущает. М. С. Строгович (2004), например, пишет:
При изучении любого логического закона… кто-либо всегда может сказать «а я мыслю не так, а совсем иначе», и это может быть правда. Но это ни в малейшей степени не лишает законы логики их необходимого значения. Мышление человека, отступающее от законов логики, психологически вполне объяснимо, но оно неправильно, ошибочно, приводит к ложным, необоснованным выводам [с. 18].
Следовательно, автора особенно не заботит очевидное даже для него самого несовпадение естественного и так называемого «логического мышления». Если естественное мышление не соответствует представлениям логиков о том, как должно протекать «правильное», «логическое мышление», тем хуже для него! Что касается эффективности логических выводов и их роли в познании окружающего мира, то логики, кстати, и не скрывают, что:
…цель логики – установить законы, согласно которым суждение оправдывается другими суждениями, и безразлично, являются ли последние сами истинными [Г. Фреге, 1997, с. 105].
Иными словами, логиков не очень интересует вопрос адекватности реальности выстраиваемых по законам логики конструкций. Для них гораздо важнее, чтобы конструкции эти соответствовали законам логики.
Неадекватность логических конструкций была очевидна многим. Б. Рассел [2007, с. 169] приводит, например, силлогизм, который, как он указывает, воспрепятствовал Лейбницу в его попытке построить математическую логику: «Все химеры являются животными, и все химеры извергают пламя, следовательно, некоторые животные извергают пламя», – и подчеркивает, что Г. Лейбниц потерпел неудачу из-за своего почтения к Аристотелю, так как вы всегда подвержены ошибке, если говорите: «Все А есть В, и все А есть С, следовательно, некоторые В есть С». Но Г. Лейбниц не смог заставить себя поверить в ошибочность этого и поэтому начинал сначала. Автор замечает, что нельзя слишком уж почтительно относиться к авторитетам.
Надо откровенно признать, хотя, возможно, это и вызовет бурю возмущения, что логика не оказала сколько-нибудь заметного влияния на развитие конкретных наук. Наука вообще не руководствуется теми законами построения языковых конструкций, которые разрабатывает логика. Разрабатываемое логикой не имеет никакого отношения к объективной физической реальности, потому что формальная логика занимается анализом формальных же конструкций языка, а далеко не все они даже являются адекватными моделями окружающего нас мира. Соответственно, естественные науки, которые пытаются моделировать объективную реальность, имеют достаточно косвенное отношение или вовсе не имеют отношения к тому, чем занимается логика. У них разные точки приложения, а потому наука просто не может руководствоваться логикой. Она руководствуется практикой.
То, что формальная логика не имеет отношения к естественному мышлению, уже не секрет для психологов. Дж. Андерсон (2002), например, пишет:
Сто лет назад раздел «Когнитивные процессы» в учебнике психологии обычно был посвящен «логическому мышлению». Тот факт, что лишь одна глава в этой книге посвящена умозаключению, отражает современное понимание того, что большая часть человеческого мышления не может считаться логическим умозаключением ни в каком разумном смысле [с. 304].
…нет никакой причины предполагать, что логика имеет тесную связь с когнитивными процессами, лежащими в основе человеческого мышления [с. 305].
Тем не менее старые заблуждения удивительно живучи, и по-прежнему остается, например, почти общепринятым, что логика широко применяется человеком при решении задач. Так, сам же Дж. Андерсон (2002) продолжает:
Удивительно, но изучение логики не всегда ведет к лучшему результату в оригинальной задаче Уэйсона по выбору карт. В исследовании Ченга, Холиоака, Низбетта и Оливера (Cheng, Holyoak, Nisbett & Oliver, 1986) студенты колледжа, только что закончившие изучение семестрового курса логики, показали результат всего лишь на 3 % лучше, чем те, кто не изучал формальную логику. Это наблюдалось не потому, что они не знали правила логики; скорее, они не применяли их в данной логической задаче. Они предпочитали применение некоторых нелогических интерпретаций правила [с. 313–314].
В связи с этим интересно замечание П. К. Фейерабенда (1986):
Имеется еще одна догма, которую следует рассмотреть… Это убеждение в том, что все люди и все объекты совершенно автоматически подчиняются законам логики и должны подчиняться этим законам. Если это так, то антропологическая исследовательская работа оказывается излишней. «Что истина в логике, то истина в психологии… в научном методе и истории науки», – пишет Поппер. Это догматическое утверждение не является ни ясным, ни истинным… Данное утверждение не является ясным, поскольку не существует такого единственного предмета – ЛОГИКИ, – который способен раскрыть логическую структуру указанных областей. Существует Гегель, существует Брауэр, существуют представители формализма. Они предлагают вовсе не разные интерпретации одного и того же набора логических «фактов», а совершенно разные «факты». И данное утверждение не является истинным, поскольку существуют вполне правомерные научные высказывания, которые нарушают даже простые логические правила [с. 415–416].
Логический анализ просто несостоятелен там, где исследователь с его помощью пытается познавать реальность. В. В. Налимов [2007, с. 189] приводит слова Ф. Ницше о том, что логика есть попытка понять действительный мир по известной, созданной нами схеме сущего, правильнее говоря, сделать его для нас более доступным формулировке и вычислению, а сам мир представляется нам логичным, потому что мы сами его сначала логизировали. Разумное же мышление есть интерпретирование по схеме, от которой мы не можем освободиться.
Ф. Бэкон (1978) считает философию Аристотеля примером ложной философии, софистикой и пишет, что Аристотель:
…свою натуральную философию совершенно предал своей логике и тем сделал ее сутяжной и почти бесполезной [с. 23].
Он (1978) отбрасывает логические выводы как:
…бесплодные в работе, удаленные от практики и совершенно непригодные в действенной части науки [с. 71].
Впрочем, за прошедшие со времени Аристотеля тысячелетия понятие логика существенно расширило свое значение. Кроме формальной и разного рода неформальных логик, теперь активно обсуждают логику мышления, логику языка, даже логику окружающего мира – скрытую логику естественных событий. Провозглашаемые принципы «научного мышления» подразумевают следование в научной деятельности и в процессе создания научных теорий определенным алгоритмам, которые принято называть «логическими». Полагают даже, что логика заложена, например, в правилах синтаксиса, которые якобы предписывают нам соединять слова определенным образом.
В XX в. возникло множество логик, отменяющих или пересматривающих основные законы и принципы классической логики. А. А. Ивин [1999, с. 210], например, отмечает, что современная логика значительно отличается от традиционной. Появилась проблема сведения многих «логик» в единство тех фрагментарных описаний мышления, которые даются отдельными логическими системами. Х. Патнэм [1999, с. 103] пишет, что сегодня область логики определяют гораздо шире, чем когда-либо, ибо логика включила в себя математику и все методы, используемые сегодня в логическом исследовании, являются математическими. Параллельно с этими изменениями логики формальная логика Аристотеля была ассоциирована логиками с тем, что можно назвать «бытовой логикой здравого смысла» и повседневного мышления, к которой относят любые адекватные и последовательные рассуждения, следование неким привычным закономерностям, понятное вытекание одного суждения из другого, например причины из следствия, разумность выводов, подтверждаемость вербальных моделей, прогнозирующих будущее, и др. В результате в естественно-научной литературе термин «логика» стал использоваться крайне расширительно и «логическое» стали отождествлять с разумностью, правильностью, продуманностью, последовательностью и адекватностью теорий, гипотез и доказательств. Между тем сама логика понимает под логическим нечто совершенно другое. В Словаре философских терминов (2004) читаем:
Определение таких важнейших логических терминов, как «правильное дедуктивное умозаключение», «логически истинное высказывание» и др., существенным образом опирается на понятие логической формы. Например, правильным называют умозаключение, логическая форма которого гарантирует получение истинного заключения при одновременной истинности посылок. Логически истинным называют высказывание, истинное в силу своей логической формы [с. 291].
Логическая форма – способ связи составных частей содержания мысли в отличие от самого этого содержания, результат отвлечения от «материи» мысли… [с. 290].
Таким образом, главный критерий истинности и правильности логического умозаключения – не его соответствие реальности, а выполнение умозрительных логических правил при его построении.
В. М. Аллахвердов (2000), будучи поборником логики, пишет тем не менее:
Естественная наука… разрешает себе быть не до конца логичной. Ибо мир, который нас окружает, сам по себе ни логичен, ни алогичен. Он таков, какой он есть, наука стремится построить логичное описание этого мира, исходя из предположения о логическом совершенстве природы, но никогда не сможет закончить это строительство [с. 73].
Особое значение для нас имеет, естественно, вопрос о так называемом «логическом мышлении». Что есть логичность мышления? Следование формальной схеме Аристотеля? Нет! Но что тогда? В психологической литературе нет ясного ответа на этот вопрос. Везде общие слова: последовательность мыслей, их четкость, целесообразность и т. д. Но при чем здесь логика? Какое отношение к этим словам имеют конструкции, алгоритмы и тем более законы логики?
Понятие логическое мышление, с одной стороны, обозначает в логике то, что вовсе не является нормальным естественным мышлением, а именно – искусственную процедуру следования алгоритму формальной логики при построении умозаключения из суждений – посылок. С другой стороны, в естественных науках, в психологии и даже в быту понятие логическое мышление обозначает нормальное мышление, способное создавать последовательные, связные, доказательные, обоснованные языковые конструкции, адекватные моделируемому ими миру.
Наконец, конструкции завершенные и совершенные, то есть аргументированные, убедительные и даже красивые. А. А. Ивин (2003), например, пишет:
Правильные выводы называются также обоснованными, последовательными или логичными [с. 5].
Приведенные разные содержания понятия логическое мышление исключают друг друга. Таким образом, представления о логическом мышлении в логике и психологии не просто приходят в противоречие, а вступают в конфликт. Например, насколько с точки зрения логики оправданна наша уверенность в том, что возникающие у нас в процессе познания правильные умозаключения и доказательства являются логичными, а неправильные – нелогичными?
Оказывается, неоправданна вовсе. Более того, наоборот, часто правильные и логичные умозаключения и доказательства, адекватные реальности с точки зрения естественных наук и психологии, являются неправильными с точки зрения логики, а неправильные и неадекватные модели реальности, наоборот, являются логически правильными.
Вместе с тем естествознание и «здравый смысл» (но не логика) поддерживают общепринятое заблуждение по поводу того, что наше «правильное мышление» обязательно должно быть «логическим», и даже что:
…мы начинаем пользоваться логикой как инструментом нашего… мышления практически с того момента, как начинаем говорить [И. П. Меркулов, 2006, с. 328].
Исходя из «здравого смысла» и привычного использования терминов в научной литературе понятия истинное или правильное и адекватное мышление, с одной стороны, и правильное логическое мышление – с другой, казалось бы, можно считать тождественными. Оказывается – нет. В логике:
Истинность есть соответствие мысли действительности, а правильность мышления – соблюдение законов и правил логики. Нельзя отождествлять (смешивать) следующие понятия: «истинность» («истина») и «правильность», а также понятия «ложность» («ложь») и «неправильность» [А. Д. Гетманова, 2005, с. 15].
…правильность – это характеристика логической связи между посылками и заключением… Правильно ли рассуждает человек, когда говорит: «Если бы барий был металлом, он проводил бы электрический ток; барий проводит электрический ток; следовательно, он металл?» Чаще всего на основе логической интуиции отвечают: правильно, барий металл и он проводит ток. Этот ответ, однако, неверен. Логическая правильность, как гласит теория, зависит только от способа связи утверждений. Она не зависит от того, истинны используемые в выводе утверждения или нет. Хотя все три утверждения, входящие в рассуждение, верны, между ними нет логической связи [А. А. Ивин, 2003, с. 14].
Сущность метода формализации состоит в построении модели, в которой содержательным рассуждениям соответствуют чисто формальные образования. Ими оперируют на основании системы правил, а не смыслового содержания предложений [А. А. Ивин, 1999, с. 233].
Следовательно, логическая правильность мышления – это совсем не то же самое, что научная правильность и истинность мышления, хотя в естествознании их принято отождествлять. Для логики формальное следование логическому алгоритму при создании языковой конструкции гораздо важнее истинности создаваемой конструкции как модели, то есть ее соответствия окружающей реальности.
Очевидный диссонанс между так называемым логическим и естественным мышлением демонстрирует широко известный эксперимент, проведенный в Африке и описанный в книге М. Коула и Сильвии Скрибнер [1977, с. 199–200].
Экспериментатор. Если Флюмо или Йакпало пьют сок тростника, староста деревни сердится. Флюмо не пьет сока тростника. Йакпало пьет сок тростника. Сердится ли староста деревни?
Испытуемый. Люди не сердятся на других людей.
Экспериментатор повторяет задачу.
Испытуемый. Староста деревни в тот день не сердился.
Экспериментатор. Староста деревни в тот день не сердился? Почему?
Испытуемый. Потому что он не любит Флюмо.
Экспериментатор. Он не любит Флюмо. Скажи почему?
Испытуемый. Потому что, когда Флюмо пьет сок тростника, это плохо. Поэтому староста деревни сердится, когда Флюмо так делает. И когда Йакпало иногда пьет сок тростника, он ничего плохого не делает людям. Он идет и ложится спать. Поэтому люди на него не сердятся. Но тех, кто напьется сока тростника и начинает драться, староста не может терпеть в деревне.
На этом примере отчетливо видно, что к реально эффективному, адекватному и последовательному естественному ходу человеческого мышления логический алгоритм не имеет никакого отношения, что и демонстрирует исследователям представитель примитивного племени, незнакомый с логикой. Вместо ожидаемого действия по алгоритму он игнорирует первую посылку и выстраивает естественную и эффективную вербальную модель, адекватную и соответствующую той реальности, с которой он в прошлом имел дело:
Староста деревни в тот день не сердился. Он не любит Флюмо, потому что, когда Флюмо пьет сок тростника, это плохо (он пьяный дерется. – Авт.). Староста не сердится, когда Йакпало иногда пьет сок… он идет и ложится спать [там же].
Мы видим создание не надуманной, далекой от реальности, вербальной конструкции, выстраиваемой по абстрактной схеме Аристотеля, а совершенно естественную и адекватную окружающей реальности «живую» вербальную модель деревенской жизни. Дж. Андерсон (2002) пишет о том же:
В большинстве исследований умозаключения людей сравниваются с различными предписывающими моделями из логики и математики. …Хотя людей можно обучить рассуждению согласно таким формальным правилам в ходе занятий по логике и статистике, в повседневной жизни они рассуждают иначе. …По-видимому, люди склонны рассуждать более конкретно, чем нормативные модели. …Исследователи в области искусственного интеллекта пытались создать интеллектуальную личность, которая обнаруживала бы подобие здравого смысла, проявляющегося у людей в повседневной жизни. Эти программы искусственного интеллекта были обеспечены безупречными логическими и статистическими умозаключениями. Но именно эти программы, а не люди являются хрупкими и всегда обнаруживают проблемы в том, чтобы прийти к правильным заключениям в определенных ситуациях [с. 336–337].
Таким образом, даже искусственный интеллект, функционирующий по законам логики, не может быть эффективным. Нам остается лишь сделать вывод, что отождествление естественного мышления и так называемого «логического мышления» ни на чем, кроме старых как мир заблуждений, не основывается. Мышление протекает не по алгоритмам логики, а по естественным и плохо пока представляемым нами механизмам и законам нормального функционирования психики, даже внешне непохожим на установленные человеком правила формальной логики.
Тем не менее заблуждения относительно роли логики в человеческом мышлении защищают множество бесспорных научных авторитетов. Э. Кассирер (2006), например, пишет:
Понятие, логическое суждение и умозаключение имеют своим предметом строение и состав бытия (и это тоже – лишь очень старое и глубокое заблуждение. – Авт.). Аристотелевское понимание и обоснование силлогистики повсюду предполагает эту идею; онтология дает основу для возведения логики. Но если это так, то математика не может уже служить образцом и примером, так как она, держащаяся строго в границах созданных ею образов, принципиально равнодушна к проблемам бытия [с. 133–134].
И сама логика не менее «равнодушна к проблемам бытия». Логика никогда и не занималась ими. Она не открыла ни одного закона бытия и даже не способствовала этому. Логика занимается лишь созданием формальных языковых конструкций, своего рода «раскладыванием пазлов». Традиции, однако, сильны, поэтому приходится сталкиваться с защитой позиций логики даже со стороны тех исследователей, которые понимают неадекватность ее положений о логическом мышлении. Так, И. П. Меркулов (2006), например, пишет:
Непонимание того обстоятельства, что логика – это не эмпирическая «наука о мышлении», а наука об идеальных, формальных структурах нашего логико-вербального мышления, которое в силу идеального, а следовательно, и гипотетического характера своих допущений не всегда обязана следовать за нашей интуицией, за нашим интуитивным пониманием «правильного мышления» или «правильного умозаключения», нередко влечет за собой незаслуженную критику логических формализмов [с. 330].
Логика, однако, и не «наука об идеальных, формальных структурах нашего логико-вербального мышления», как полагает автор, так как нет и не может быть никаких структур мышления, дополнительных по отношению к реальному человеческому мышлению. Поэтому отвергаемая автором ее критика вполне обоснованна и заслуженна.
И. П. Меркулов (2006) продолжает:
Конечно, наше мышление в целом не охватывается логикой, так как мы мыслим не только в соответствии с логическими правилами и формальными схемами, но и с помощью множества идеальных структур нелогического характера… [с. 330].
Остается лишь еще раз повторить, что наше мышление вообще «не охватывается логикой».
Мышление протекает не по законам формальной логики, а по принципу простых выводов из многих неопределенных посылок или по принципу аналогии выстраиваемой мышлением модели имеющимся уже моделям. Не так, например: Вася упал и ударился ногой. Всем, кто падает и ударяется ногой, больно. Следовательно, Васе больно, а скорее так: 1) зрительный образ падения Васи и 2) слуховой образ его плача; 3) вербальная мысль: Васе больно.
И не так: Мне позвонили в дверь. Все люди, которым звонят в дверь, должны встать и посмотреть, кто пришел. Следовательно, мне надо встать и посмотреть, кто пришел, а скорее так: 1) слуховой образ звонка; 2) вербальная мысль: Кто это? – и одновременно практически рефлекторная моторная реакция, направленная на открывание двери или, наоборот, отказ от этого действия. Таким образом, естественное мышление протекает как совокупность тесно связанных между собой чувственных образов и вербальных конструкций, а не как последовательность формальных логических вербальных конструкций-умозаключений.
Г. Райл (1999) пишет:
…логику повседневных утверждений и даже логику утверждений ученых, юристов, историков и игроков в бридж в принципе невозможно адекватно представить посредством формул формальной логики [с. 355].
Это объясняется очень просто: в их мышлении и нет этой логики. В противном случае они не смогли бы эффективно функционировать.
Логика претендует на познание мира, хотя сама лишь оперирует конструкциями языка. Из одних конструкций языка она строит другие, при этом ей вполне хватает самого языка. Если наука строит модели реальности, лишь используя язык как удобный материал для моделирования, то логика пытается строить модели реальности путем трансформирования существующих уже конструкций языка, создавая на основе известных конструкций новую конструкцию. Она пытается добыть новое знание о мире из уже существующего и представленного в виде языковых конструкций, сопоставляя части известных конструкций в новой. Показательный пример неэффективности такой манипуляции с языковыми конструкциями убедительно продемонстрировал Х. Патнэм (1999):
Если все вороны черные и все черные вещи поглощают свет, то все вороны поглощают свет [с. 117].
Насколько созданная модель нова и полезна для познания?
Логика базируется на том, что утверждения, существующие в форме конструкций языка, самодостаточны и верны, хотя в большинстве случаев это не так. Существующие в форме конструкций языка модели реальности, на основе которых логика строит новые модели, чаще всего либо неполны, либо не вполне верны, либо вовсе не имеют отношения к реальности. Поэтому новые модели, создаваемые логикой, бесполезны или минимально полезны для познания реальности. В абсолютном большинстве случаев они не универсальны. Попытки создания новых моделей мира из известных конструкций языка методологически ошибочны и малопродуктивны.
Могут возразить, что логика и не претендует на важную роль в познании мира. И. П. Меркулов (2006), например, пишет:
…она (логика. – Авт.) всегда исследовала и продолжает исследовать то, как из одних утверждений логически выводятся другие утверждения. Логика исходит из предположения, что логический вывод зависит только от «формы», то есть от способа связи входящих в него утверждений и их структуры, а не от конкретного содержания этих утверждений. Современная неклассическая логика не внесла в этот подход каких-либо принципиальных изменений – все ее разделы и направления также игнорируют конкретное концептуальное содержание высказываний (умозаключений) и оперируют только с их логической формой [с. 327].
Вместе с тем, с другой стороны, провозглашается, что логика – это наука о правильном мышлении, а без него никакое познание невозможно в принципе.
И. П. Меркулов продолжает:
Если с помощью «истинного» слова нельзя «овладеть» окружающим миром, то незачем тогда исследовать, при каких условиях одни высказывания «безошибочно» выводятся из других высказываний [с. 329]!
Вот этот вывод автора, безусловно, верен. Другое дело, что изучать языковые конструкции и особенности формирования одних языковых конструкций на основе других все же полезно, но не с целью «овладения» окружающим миром, а лишь с целью решения лингвистических, например, и педагогических задач. Логика может, по-видимому, иметь какое-то значение для понимания языка, его структуры, особенностей моделирования реальности с помощью языка, но она не может иметь значения для моделирования реальности, то есть для ее познания. Сказанное мной отнюдь не является чем-то новым, так как еще И. Кант и даже Р. Декарт говорили примерно о том же. В. Виндельбанд (2007а), например, пишет:
Оценивая познававательную ценность… логических форм мышления, Кант признал, что они в состоянии производить лишь формальное преобразование и пояснение уже данного материала. Если же так, то сами по себе логические формы уже не могут иметь значения форм познания в собственном смысле этого слова и логика будет уже не теорией познания, а скорее учением о формах правильного мышления, поскольку последнее ограничивается аналитической обработкой уже готового содержания представлений [с. 78].
Уже те логические воззрения, которые Кант изложил в 1762 г. в маленькой статье «Ложное мудрствование в четырех фигурах силлогизма», имеют целью показать, что все действия над понятиями всегда лишь создают новые формальные отношения в существовавшем ранее содержании познания и никогда не заключают в себе и не могут прибавить ничего нового. В самой простой и совершенно самостоятельной, чисто логико-теоретической форме проскальзывает у Канта то самое воззрение, которое Бэкон и Декарт выдвинули против логического формализма схоластики… [с. 29].
Тем не менее сам И. Кант указывал, что рациональное мышление – это логика, то есть в его собственных представлениях еще сохранялась та самая двойственность, которая до сих пор оказывает негативное влияние на психологическое учение о мышлении.
Б. Рассел (2001) тоже пишет:
По традиции считается, что фактические данные поставляются восприятием, памятью, а принципы вывода являются принципами индуктивной и дедуктивной логики. В этой традиционной доктрине много неудовлетворительного… Дедукция оказалась гораздо менее мощной, чем это считалось раньше; она не дает нового знания, кроме новых форм слов для установления истины, в некотором смысле уже известных. …Методы выводов, которые можно назвать в широком смысле слова «индуктивными»… сообщают своим заключениям только вероятность; более того, в любой наиболее возможно точной форме они не обладают самоочевидностью и должны, если вообще должны, приниматься только на веру, да и то только потому, что кажутся неизбежными для получения заключений, которые мы все воспринимаем [с. 171].
Логика манипулирует с бесспорными, а потому неадекватными реальности и часто даже нелепыми суждениями, вроде того, что «паук и черный олень всегда едят вместе», тогда как в жизни нам приходится оперировать моделями окружающего мира, которые всегда многозначны или, по крайней мере, неоднозначны. Использовать их в логике – это все равно что пытаться отлить пулю из ртути. Логические же вербальные посылки, напротив, всегда аксиомы, всегда бесспорны и однозначны. Уже только поэтому исходно они либо банальны и тривиальны, либо неверны, либо искусственны и надуманны, а потому из них невозможно вывести никаких новых и правильных моделей реальности, то есть логика бесполезна для познания. Интересно замечание Б. Рассела:
Поскольку логика требует, чтобы используемые понятия были точными, она применима не к реальному миру, а только к «воображаемому неземному существованию» [цит. по: А. А. Ивин, 1999, с. 55].
Попытки строить с помощью логики модели реальности приводят к парадоксальным и смешным результатам. Еще в IV в. до н. э. Евбулид логически доказывал, что лысых людей не существует [цит. по: А. А. Ивин, 1999, с. 58]. Допустим, мы выстроили людей с разной степенью облысения так, чтобы у каждого последующего было на один волос меньше, чем у предыдущего. Самый волосатый – крайний в ряду с одной стороны – очевидно не лысый. Следующий – тоже не лысый, так как у него всего на один волос меньше. Это верно для каждой пары в ряду. В итоге абсолютно лысый – тоже не лысый, так как у него всего на один волос меньше, чем у предыдущего не лысого. По тому же принципу, но двигаясь в противоположную сторону ряда, можно доказать, что все эти люди лысые. Логик А. А. Ивин (1999) комментирует такое логическое моделирование окружающего мира:
Мы оказываемся, таким образом, перед дилеммой: нам остается либо верить своим глазам и не верить своему уму, либо наоборот. …И оба доказательства (логических. Авт.) были проведены с помощью метода математической индукции, в безупречность которой мы верим со школьных лет и которая лежит в основании такой строгой и точной науки, как математика [с. 53].
Следовательно, попытка логики моделировать окружающий мир демонстрирует в данном случае свою полную несостоятельность, так как создаваемая с ее помощью вербальная модель не соответствует сенсорной модели и явно ошибочна. Понятно, что мы предпочтем в итоге очевидную истинность своей сенсорной, а не вербальной логической модели. Для самих логиков тоже вполне очевидна неадекватность и противоречивость многих положений логики (5).
Несмотря на все сказанное выше и на то, что все это не является для логиков секретом, на протяжении многих веков ученые очень уважительно относятся к логике. Почему?
Дело в том, что понятие логика – это не только название древней науки. Как я уже говорил, оно теперь резко расширилось и включает в себя гораздо больше, чем просто название науки, а именно – все то, что имеет отношение к эффективному и адекватному мышлению, и даже некий всеобщий порядок, присутствующий, по мнению многих исследователей, в окружающем мире. Логике, как принято считать, подчиняются сама объективная физическая реальность и ее законы.
Здесь мы сталкиваемся с очевидной заменой значения понятия логика. Формальная аристотелевская логика – наука о форме рассуждений как-то незаметно трансформируется во «всеобщую целесообразность», «логику реальности» или «трансцендентную логику», упорядочивающую и систематизирующую окружающую нас реальность в некую ее (реальности) характеристику, которая отражается в нашем мышлении, делая его логичным. Сейчас в литературе не делают особых различий между логикой – особым направлением исследований, изучающим построение конструкций языка и мало связанным с реальностью, и Логикой, которая, как полагают большинство исследователей, присуща самой объективной реальности, отражающему ее мышлению, естественным наукам и даже языку. Именно в подмене значения первого понятия логика значением второго понятия – Логика кроются причины избыточно уважительного отношения ученых к логике и рассмотрения ее как науки о мышлении. Здесь логика сама нарушает один из своих основных законов – закон тождества107.
Логичными теперь в естествознании и психологии (хотя пока и не в самой логике) принято называть те языковые конструкции, которые соответствуют окружающей человека реальности, то есть адекватно, последовательно и полноценно ее моделируют. Забудем на время о том, что наличие самой «Логики Вселенной» и «высшей рациональности» – не более чем очередная гипотеза – вербальная конструкция исследователей, о том, что не эта Логика отражается в человеческом сознании, определяя якобы наше мышление, а сама она создается человеческим сознанием и проецируется им во внешний мир, то есть «трансцендентная Логика Вселенной» не интериоризируется, а, наоборот, экстериоризируется нашим сознанием. Но и в этом случае у нас нет никаких оснований отождествлять эту Логику Вселенной с логикой – наукой о форме рассуждений и полагать вследствие этого, что последняя есть еще и наука о правильном, адекватном и целенаправленном мышлении.
Нельзя все же не отметить, что, имея более чем двухтысячелетнюю историю, логика многократно подвергалась беспощадной критике и ревизии. Тем не менее все это она благополучно пережила, что лишний раз, по-видимому, свидетельствует о ее необходимости. Не справившись с решением декларированных ею задач в отношении мышления, логика все же не осталась в стороне от рассмотрения других собственно психологических проблем. Будучи значительно «старше» психологии, логика раньше нее занялась, например, описанием естественных операций мышления: анализа, синтеза, дедукции, индукции, вывода и других, а также изучением понятий и конструкций из них.
Причем включила она их в свой предмет не в рамках формальной логики, так как там они неуместны, и рассматривает их на основании расширительного толкования значения понятия логика, в соответствии с которым логичным в мышлении считают все, что последовательно, связно, доказательно, обоснованно и убедительно, несмотря на то, что такое мышление как раз обычно противоречит законам формальной логики. Благодаря такому, с «черного хода», вхождению логики в психологию естественные операции мышления стали изучаться в курсе логики, и их «с полным основанием» рассматривают теперь как «логические», хотя на деле они не только не имеют к формальной логике никакого отношения, но и противоречат ей.
В результате даже в самой логике появились признаки трансформации значения понятия логический. А. А. Ивин (1999), например, пишет:
Навыки логически правильного рассуждения составляют в совокупности то, что можно назвать интуитивной логикой. Это не теория и не система отчетливых правил, а просто некоторое умение. Оно во многом подобно умению ходить и говорить [с. 17].
Уж совсем непонятно, какое отношение к логике могут иметь навыки, даже навыки говорить. Из сказанного автором следует, что навыки «логически правильного рассуждения» ребенок усваивает в процессе общения с окружающими вместе с типовыми конструкциями языка, которые моделируют привычные грани реальности. Новая «логичность» и правильность рассуждений или типовых конструкций языка обусловлена тем, что язык описывает и замещает своими конструкциями правильные, то есть адекватные реальности ее сенсорные модели. Причем никакой логики в классическом ее понимании во всем этом нет. Есть лишь использование понятия логика.
«Логическая дедукция» и «логическая индукция» тоже никак не соотносятся с естественными операциями дедукции и индукции. Общим у них являются только названия. Сами логики пишут о том, что навыки рассуждать адекватно возникают не вследствие изучения законов логики, а совсем по другим причинам:
Повседневное тысячи и тысячи раз повторяющееся соединение утверждений между собой, образование из них умозаключений приводит в конце концов к формированию более или менее устойчивого навыка рассуждать правильно и замечать свои и чужие ошибки. Навык не предполагает ни каких-то теоретических сведений, ни умения объяснить, почему что-то делается именно так, а не иначе [А. А. Ивин, 1999, с. 16–17].
Вновь возникает вопрос: при чем здесь тогда логика?
Она здесь обсуждается только в силу традиций и привычки. Объективности ради надо, впрочем, признать, что логика добилась определенных успехов в рассмотрении многих проблем психологии. Например, в описании и классификации понятий, пропозиций и более сложных вербальных конструкций, к рассмотрению которых мы и перейдем.
Нельзя не отметить тот факт, что логика внесла существенно больший, чем психология, вклад в разработку проблемы понятий и понятийного мышления. В настоящее время во всех учебниках логики представлены большие разделы, посвященные понятиям, суждениям и умозаключениям. В то же время учебники психологии, напротив, почти не включают данные разделы или включают их в урезанном виде. Это выглядит не менее странно, чем выглядело бы, например, отсутствие в них раздела «восприятие».
Представления о понятиях в логике существенно различаются. Одни исследователи рассматривают понятие как «форму мышления, в которой отражаются существенные признаки вещей и явлений» [М. С. Строгович, 2004, с. 75] или «классы однородных предметов» [А. Д. Гетманова, 2007, с. 40]. Другие – как «общее имя с относительно ясным содержанием и сравнительно четко очерченным объемом» [А. А. Ивин, 1999, с. 41].
А. А. Ивин (1999) пишет, например:
Иногда понятия отождествляются с содержанием общего имени, со смыслом, стоящим за таким именем [с. 41].
В логике выделяют содержание понятия – совокупность существенных признаков класса или классов однородных предметов, охватываемых понятием, и объем понятия – все предметы или явления, к которым приложимо данное понятие. Например, содержанием понятия ромб является совокупность двух существенных признаков: 1) быть параллелограммом и 2) иметь равные стороны; а объемом понятия ромб являются все ромбы, которые существуют, существовали или будут существовать.
Понятия делятся в логике на единичные – обозначающие определенный предмет, явление или событие, например: Париж (столица Франции), «Черный квадрат» (картина Малевича), «Челленджер» (космический челнок) и т. д., и общие – охватывающие группу, класс однородных явлений, предметов, вещей, например: стол, бумага, планета и т. д. [М. С. Строгович, 2004, с. 85–86]. Среди общих понятий выделяют универсальные – те, в которые «входят все предметы, рассматриваемые в данной области знания или в пределах данных рассуждений» [А. Д. Гетманова, 2007, с. 45]. В особую группу понятий выделяются категории –
…отражающие наиболее общие свойства предметов, явлений, наиболее общие и существенные отношения и связи действительности [М. С. Строгович, 2004, с. 89].
Понятия подразделяются также на конкретные, обозначающие конкретный108 предмет, вещь или лицо, и абстрактные109, обозначающие:
…не целый предмет, а какой-либо из признаков предмета, взятый отдельно от самого предмета, например: белизна, несправедливость, честность [А. Д. Гетманова, 2007, с. 45].
А. А. Ивин (1999) пишет:
Противопоставление абстрактных имен конкретным призвано упредить одну из частых ошибок, связанных с употреблением языка: попытку отыскать в реальном мире ту вещь, которая соответствует абстрактному имени (отыскать предмет, являющийся белизной, или предмет, являющийся лошадью вообще) [с. 42].
Впрочем, проблема конкретности – абстрактности понятий настолько сложна и настолько субъективно оценивается исследователями, что автор на той же странице противоречит себе же:
Конкретному имени противостоит абстрактное имя – имя, обозначающее свойство или отношение между предметами. Например, «дом», «белый дом», «лошадь» и т. п. – конкретные имена, поскольку они обозначают предметы, отдельные вещи. Но слово «белизна» является абстрактным именем, так как оно обозначает… свойство предмета [там же].
Так что же тогда такое лошадь (вообще) – конкретное или абстрактное понятие?
Конечно, это абстрактное понятие. Однако то обстоятельство, что абстрактные понятия, например лошадь, стул, дом (вообще) и т. д., постоянно используются для обозначения конкретных объектов, более того, входят в имена собственные, может запутывать исследователей. А. Д. Гетманова (2007), например, излагает широко распространенную точку зрения о том, что понятия дом, свидетель, романс, Московский Кремль и землетрясение являются конкретными, так как в них:
…отражены одноэлементные или многоэлементные классы предметов (как материальные, так и идеальные) [с. 45].
Тем не менее очевидно, что понятия дом, свидетель или романс, с одной стороны, и понятия Московский Кремль, Дом на набережной или свидетель Иванов – с другой, совершенно разные. Первые – абстрактные, вторые – конкретные.
М. С. Строгович (2004) вообще считает конкретным понятием то,
…которое относится к группам, классам вещей, предметов, явлений или к отдельным вещам, предметам, явлениям. Например, стол, человек, война, государство, солнце, товар, деньги, книга и т. д. – это все конкретные понятия, потому что они отражают соответствующие конкретные предметы, явления, вещи. Абстрактное понятие – это понятие о свойствах предметов или явлений, когда эти свойства взяты как самостоятельный объект мысли и отвлечены, абстрагированы от предметов [с. 87].
С этим уж тем более никак нельзя согласиться. Кстати, Современный философский словарь [2004, с. 10] относит деньги, например, к «реальным абстракциям». Мне представляется, что подход психологов к неясной проблеме «абстрактности» понятий даже более конструктивен, чем позиция логиков. Большой толковый психологический словарь (2001), например, поясняет:
Понятие «стул» может рассматриваться как более конкретное, чем «патриотизм», хотя оно также может представлять абстрактный класс стульев, лишенный специфических признаков. Возможно, этим понятием следует оперировать абстрактно… [с. 15].
Мне кажется очевидным, что конкретным можно считать понятие, обозначающее и замещающее сенсорную модель-репрезентацию конкретного же объекта. Если же значением понятия является собирательная модель-репрезентация, представляющая собой уже совокупность многих моделей-репрезентаций сходных, но разных конкретных объектов, то соответствующее понятие, например стул, дом, собака (вообще), автоматически должно переводиться в категорию абстрактных. Другое дело, что все абстрактные понятия используются для обозначения конкретных предметов, что затрудняет понимание проблемы. Так, обозначая конкретные объекты: моя собака, дом Ивановых, стул Пушкина и т. п., мы вынуждены использовать общие абстрактные понятия: собака, дом, стул (вообще), которые обозначают абстрактные сущности, отсутствующие в реальности.
Дополнительные трудности создает тот факт, что есть разные абстрактные понятия. Значениями одних из них (дом, собака, кот) являются собирательные сенсорные модели-репрезентации определенных множеств объектов (домов, собак и котов). Значениями других являются вербальные психические конструкции, репрезентирующие часто не вполне ясные абстрактные сущности, которые сложно даже проиллюстрировать чувственными образами, например понятия абстрактный, конкретный, теория и т. п. Впрочем, даже то, что обозначается любым общим абстрактным понятием, например собака, дом, стул (вообще), нельзя назвать физическим объектом и можно определить лишь как псевдообъект или объект объективной психической реальности, так как его нет в физической реальности, где присутствуют лишь конкретные объекты: собака Пират, кошка Мурка и вон тот стул у окна.
В логике выделяются также относительные и безотносительные, положительные и отрицательные, собирательные и несобирательные, сравнимые и несравнимые [А. Д. Гетманова, 2007, с. 46–48], неточные, неясные и многозначные понятия [А. А. Ивин, 1999, с. 48–67] и др. Относительные понятия – те, которые обозначают предметы, существование одного из которых предполагает существование другого (дети – родители, ученик – учитель и т. п.). Безотносительные понятия обозначают предметы, независимые от других предметов (дом, человек, деревня и т. п.). Положительные понятия обозначают наличие в предмете того или иного качества или отношения: грамотный, алчный, отстающий и т. д., отрицательные понятия – отсутствие качества в предметах: неграмотный, некрасивый поступок, бескорыстная помощь и т. п. Собирательными называются понятия, в которых группа однородных предметов мыслится как целое: стая, полк, созвездие, табун и т. п.
Весьма показательны в смысле крайне расширительного толкования логиками своего предмета так называемые «логические операции». Одной из них является «определение» понятия, которому в логике придается очень большое значение. А. Д. Гетманова (2007) пишет:
Определение (или дефиниция) понятия есть логическая операция, которая раскрывает содержание понятия… [с. 54].
Примеры определений:
Трапеция – четырехугольник, у которого две стороны параллельны, а две другие – не параллельны [А. Д. Гетманова, 2007, с. 54].
Информатика – наука, предметом которой являются процессы и системы получения, хранения, передачи, распространения, использования и преобразования информации [А. Д. Гетманова, 2005, с. 35].
М. С. Строгович (2004) замечает, что самым простым способом определения может показаться перечисление признаков. Так, определить понятие стол можно перечислением признаков, которые имеют столы, но в действительности это сделать невозможно из-за бесконечного количества признаков. Автор пишет:
Логика устанавливает способ определения, который устраняет все эти трудности и в то же время дает возможность указать существенные признаки определяемых объектов. …Определяемое понятие подводится под другое, более общее понятие, которому данное понятие подчинено и часть объема которого оно составляет, а затем указывается тот признак, которым определяемое понятие отличается от других понятий, также подчиненных этому общему понятию… [с. 112].
Из приведенной цитаты может показаться, что определение понятия – не менее важное действие, чем формирование понятия. А. А. Ивин [2003, с. 44] тоже пишет, что данные «логические операции» рассматриваются в логике как «чрезвычайно важные» и «необходимые» для «правильного логического» использования понятия и в конечном счете для «правильного мышления». Может быть, это и важно, но лишь для обучения новых поколений. Дело в том, что «определение понятия» не имеет отношения к формированию понятия и использоваться людьми понятие начинает задолго до того, как ему дадут определение исследователи.
«Определение понятия» есть языковая конструкция, потенциально содержащая в себе вербальное значение данного понятия. Следовательно, то, что в логике называют «определением» какого-то понятия, сначала (обычно в детстве) интериоризируется человеком из объективной психической реальности в качестве вербального значения этого понятия, а затем уже в виде «определения понятия» вновь экстериоризируется взрослым человеком – логиком обратно в объективную психическую реальность. Возникает естественный вопрос: при чем здесь какая-то «логическая операция», о которой говорят выше логики, и в чем именно она заключается?
Ни при чем и ни в чем. Это просто привычный реверанс в сторону логики, которая не имеет никакого отношения ни к построению вербальной конструкции, обозначаемой затем определенным понятием, ни к последующей экстериоризации вербального значения в виде языковой конструкции, то есть к созданию «определения понятия», ни даже к ее интериоризации новыми поколениями людей.
То, что делает любой исследователь (в том числе логик), «определяя понятие», которое сам узнал от других людей, усвоив соответствующее слово языка и его смысл, – это строит более или менее корректную языковую конструкцию110 на основе существующего в объективной психической реальности, а потому известного вербального значения понятия, а вовсе не «раскрывает содержания понятия», как полагает, например, Хелен Гейвин [2003, с. 35], так как оно и так было известно и использовалось людьми. Следовательно, вся чуть ли не сакральная значимость для логиков «логической операции» построения «определения понятия» заключается лишь в педагогическом значении таких определений и не более того. Никакого отношения к «правильному» или неправильному мышлению все это не имеет.
Продолжая обсуждение проблемы чрезмерного и неоправданного расширения логики в область психологии, следует коснуться так называемых «логических форм». М. С. Строгович [2004, с. 116] полагает, что существуют «логические формы», сходные с определением, которые иногда его замещают или дополняют: описание и характеристика предмета, объяснение слова и наглядное разъяснение предмета при помощи примеров и сравнений. А. А. Ивин (1999) говорит еще более определенно о том, что существуют в том числе «определения путем показа»:
Нас просят объяснить, что представляет собой жираф. Мы затрудняемся сделать это, ведем спрашивающего в зоопарк, подводим к клетке с жирафами и показываем: «Это и есть жираф» [с. 90].
По поводу такой весьма показательной и в буквальном, и в переносном смысле «логической формы» вообще комментарии излишни. Очевидно, что никакого отношения к логике все эти явления не имеют и вся их «логичность» заключается лишь в том, что они рассматриваются в рамках предмета «Логика», а не «Психология».
Очередной «логической формой» является «деление понятия». А. Д. Гетманова (2007) определяет его как:
…логическую операцию, посредством которой объем делимого понятия (множество) распределяется на ряд подмножеств с помощью принятого основания деления [с. 67].
«Основанием» деления является определенный признак, выбираемый делящим понятие лицом. Разделяемое понятие – родовое, а подмножества, на которые оно делится, – виды данного рода. Чтобы деление было правильным, как пишет М. С. Строгович [2004, с. 132–135], необходимо соблюдать следующие логические правила: 1) в каждом делении должно быть только одно основание; 2) члены деления должны исключать друг друга; 3) члены деления по отношению к делимому понятию должны быть ближайшими видами, то есть непосредственно низшими понятиями; 4) члены деления, вместе взятые, должны равняться объему делимого понятия; 5) основанием деления должен быть существенный признак. Одним из результатов деления являются классификации111. Из всего этого следует, что, по мнению логиков, «деление понятия» – это абстрактная логическая операция мышления, проводимая исключительно с понятиями и по законам логики. Однако это отнюдь не так.
Авторы то ли не замечают, то ли не обращают внимания на то обстоятельство, что «деление понятия» – это не разделение (классификация) слов или даже понятий, а разделение сущностей, обозначаемых понятиями. Соответственно, здесь вступают в силу не законы логики, а законы окружающей человека реальности. Проблема дополнительно осложняется тем, что далеко не все подвергаемые «делению» сущности, как я уже отмечал, присутствуют в физической реальности. Многие из них являются сущностями вымышленными, гипотетическими или выполняют служебные функции и присутствуют лишь в объективной психической реальности. Рассуждения логиков о якобы доступной им возможности «деления понятий» я даже не берусь комментировать.
М. С. Строгович (2004) пишет:
…основание классификации должно быть строго научным объективным, должно представлять собой признак, который… является определяющим [с. 138].
Вопрос: как найти такой «определяющий признак» и есть ли он вообще? Впрочем, сам автор, понимая данную трудность, замечает [с. 142], что все классификации имеют относительный характер.
Принято считать, что понятия образуются путем таких логических приемов, как анализ и синтез, абстракция и обобщение112. Однако «логического» в этих приемах – лишь то, что традиционно все они рассматриваются в курсе логики, а не психологии.
То, что логика разработала и инкорпорировала в себя большой раздел общей психологии – психологию понятий и конструкций из них, существенно повысило авторитет логики. Однако от этого ни конструкции из понятий, ни способы их образования, ни операции мышления с понятиями не стали логическими.
Вопрос о роли и месте чувственных репрезентаций в структуре абстрактных понятий широко и давно дискутируется. М. Мерло-Понти (1999), например, полагает, что:
…ни одно из них (понятий. – Авт.) не может быть понято без соотнесения со структурами зрительного восприятия [с. 184].
В. В. Петухов [2004, с. 635] замечает, что вопрос о значимости чувственных репрезентаций для абстрактных понятий обсуждается и сейчас, хотя впервые демонстрации представленности чувственных элементов в абстрактных понятиях проводились еще сторонниками ассоцианизма (Э. Титченер). Ссылаясь на А. Пэйвио, В. Ф. Петренко [2005, с. 42–43] тоже пишет, что даже абстрактные понятия имеют некоторую «чувственную привязку».
Очевидно, что есть понятия с разной степенью абстрактности. В том смысле, что значениями одних из них являются собирательные сенсорные модели-репрезентации реальности, тогда как значениями других – уже исключительно вербальные конструкции, которые лишь как-то косвенно иллюстрируются отрывочными визуальными образами. Примером первых являются такие понятия, как стул и дерево. Примером вторых – философия (познание сущего, вечного [Платон]), абстракция (…нечто неосязаемое, рассматриваемое без конкретных примеров… [Большой толковый психологический словарь, 2001, 14]), демография (изучение структуры человеческих популяций), злокачественный (характеристика быстро прогрессирующего болезненного состояния) и т. д. Среднее положение между ними занимают, например, такие понятия: зверь (дикое, обычно хищное животное, представляющее собой угрозу для человека), цвет (особое, визуально воспринимаемое качество предметов) или клинический (имеющий отношение к клинике) и т. п.
Вопрос о том, что представляют собой «абстрактные идеи» и существуют ли обозначаемые ими сущности, подробно рассматривался еще Д. Беркли (2000), который в итоге замечает, что он не в состоянии усилием мысли образовать, например, абстрактную идею «или белого, или черного, или краснокожего, прямого или сгорбленного, высокого, низкого или среднего роста человека». Правильнее, однако, было бы сказать – не в состоянии создать абстрактный образ предмета без его качеств или образные качества без самого образа предмета. Впрочем, не все считают так, как Д. Беркли. Р. Вудвортс (1950), например, пишет:
…интроспективное исследование показало, что иногда вещи могут быть представлены и без своих качеств. Коффка доказал это в эксперименте, в котором экспериментатор называл слова, а испытуемый пассивно ждал появления образа (K. Koffka, 1912). Обычно эти образы были иллюстрациями значения данного слова-стимула. В полученной Коффкой большой коллекции данных некоторые образы репрезентировали объекты без полного комплекта качеств: «образ монеты, но без определенного номинала». «Образ животного, какого вида животного, я не знаю, но это было животное, из которого может быть получена пушнина». «Образ числа 1000, но с неопределенным числом нулей». Сходно при чтении, где можно ожидать быстрой смены образов, иллюстрирующих значение, такие образы оказываются более бедными и мимолетными [с. 48].
Чтобы понять полученные К. Коффкой результаты, проще всего провести аналогичные интроспективные опыты самостоятельно. Я мысленно с закрытыми глазами произношу слово «монета», и в моем сознании возникает последовательность кратковременных зрительных образов представления монет из белого и желтого металла с гербом на одной стороне, рифленой или гладкой торцевой поверхностью и номиналом на другой стороне. Вероятно, из-за контекста в сознании появляются в том числе образы монет со стертым от времени или непропечатанным при изготовлении номиналом. При этом я отчетливо «вижу» плоскую пустую серебристую поверхность монеты, на которой обычно присутствовали выпуклые цифры номинала. Противоречит ли наличие образа такой «деноминированной» монеты точке зрения Д. Беркли и является ли это отсутствием конкретного качества, как полагает Р. Вудвортс? Скорее это отсутствие у объекта лишь ожидаемого исследователем варианта конкретного качества при наличии другого, сходного и замещающего его варианта качества. Отсутствие цифры, обозначающей номинал, – это тоже своего рода номинал, пусть и неопределенный, то есть это сохранение качества «номинированности».
Вторая последовательность мгновенных образов, иллюстрирующих понятие животное, тоже легко возникает в моем сознании в виде образов существ, покрытых шерстью и даже вовсе без шерсти – что-то вроде дельфина. Причем образы, возникшие в сознании в ответ на появление в нем понятия животное, как и при появлении понятия монета, не исчерпываются лишь одним образом воспоминания-представления, а представлены множеством мимолетных образов сходных в чем-то объектов. Причем возникают не только образы тел, покрытых мехом и непонятно кому принадлежащих, но и образы частей этих тел, например чьей-то черной лапы с когтями.
Образ числа 1000 с неопределенным количеством нулей, пожалуй, еще более понятен, потому что у меня, например, при мысленном воспроизведении значения понятия тысяча всплывают и образы 1000, и образы множества разных по форме и размерам нулей и единиц, хотя среди этих возникающих в сознании образов представления преобладают все-таки образы единицы с тремя нулями. Учитывая то, что образы, иллюстрирующие понятия монета, животное и число 1000, возникают в сознании в рамках соответствующих собирательных и достаточно аморфных моделей-репрезентаций, включающих в себя самые разные образы многих и достаточно сильно отличающихся друг от друга объектов, говорить о каком-то якобы единственном образе воспоминания-представления не приходится. Речь может идти лишь о последовательностях зрительных и даже слуховых образов представления и воспоминания, каждый из которых репрезентирует свой вариант объекта или даже его фрагмента. Среди тех образов, которые возникли в моем сознании, например, я зафиксировал в том числе образ представления половины монеты, стоящей на ребре в какой-то щели, и именно ребро монеты было представлено особенно четко, тогда как ни номинала, ни герба на монете не было видно вовсе.
Р. Вудвортс (1950) замечает:
Беркли отрицает возможность обобщенных образов, или, как он их называет, общих понятий или абстрактных идей [с. 47].
Я думаю, что Д. Беркли прав в том, что нет и не может быть обобщенного, или абстрактного, единичного образа, выступающего в качестве сенсорного значения абстрактного понятия (6). К тому же Д. Беркли совершенно оправданно отрицает возможность существования образов качеств предметов в отрыве от образов самих предметов или образов предметов в отрыве от образов их качеств, хотя делает это, возможно, не очень удачно, распространяя свое отрицание на сами абстрактные идеи, то есть уже на понятия и конструкции из них. Понятие обобщенный, или абстрактный, образ определяется в психологии крайне расплывчато и по-разному: то как образ, составленный из фрагментов многих образов, то есть собирательный, то как отвлеченный, максимально удаленный от реальности, ничем не похожий ни на какой конкретный образ, но при этом единичный.
Однако, как свидетельствует интроспекция, то, что можно было бы назвать абстрактным образом, – это всегда множество образов. Так, значением абстрактного понятия треугольник, например, является не некий невозможный единичный образ треугольника вообще, а целая сенсорная конструкция, включающая в себя множество кратковременных образов представления и воспоминания самых разных треугольников. В «идее треугольника», таким образом, следует различать понятие треугольник и сенсорную собирательную модель-репрезентацию абстрактного треугольника, являющуюся чувственным значением этого понятия.
Рассмотрим, как формируется понятие треугольник. Обычно ребенок сталкивается сначала с визуальными образами треугольника, даже не зная этого понятия. Когда-то он впервые слышит и запоминает, что подобные расположенные на плоскости объекты с тремя углами и тремя сторонами обозначаются словом «треугольник». В результате визуальные сенсорные модели разных треугольников, с которыми он уже имел дело, формируют множество – новую модель-репрезентацию, которая обозначается понятием треугольник. С течением времени, особенно в процессе получения школьного образования, данное множество расширяется, одновременно с этим углубляется и уточняется вербальное значение понятия треугольник, то есть присоединяется вербальная конструкция113, которая раскрывает на абстрактном уровне значение данного понятия или данной абстрактной идеи (по терминологии Д. Беркли).
Хотя если быть точным, то треугольник – это все же не «абстрактная идея», а понятие. Идея, по моему мнению, – это скорее суждение или даже умозаключение, но не понятие. Идеей можно, например, назвать вербальное значение понятия треугольник. Сенсорным значением этого же понятия является модель-репрезентация той абстрактной сущности, которая обозначается данным понятием, представляющая собой множество образов воспоминания и представления треугольников, с которыми мы имели дело на протяжении нашей жизни. Итак, Д. Беркли, как мне представляется, прав, когда говорит, что абстрактных образов нет.
Тем не менее в психологии широко обсуждаются какие-то единичные абстрактные образы. Даже в Большом толковом психологическом словаре (2001), например, читаем:
Абстрактный… когнитивный процесс… посредством которого абстрактная идея или понятие извлекаются из множества образцов… Результат этого процесса; мысленный образ абстрактного понятия [с. 15].
Р. Л. Солсо (1996) пишет о том, что Фрэнкс и Брэнсфорд (Franks & Bansford, 1971) показывали испытуемому
…фигуры, полученные путем преобразования фигуры-прототипа, и просили оценить, видел ли он их раньше. В этом эксперименте испытуемые ошибочно и с высокой степенью уверенности опознавали прототип как ранее виденную фигуру. Вероятно, это можно объяснить тем, что у испытуемых в результате их опыта с данными экземплярами формировалась абстракция – фигура-прототип. Отсюда можно предположить, что люди формируют абстракции внешних впечатлений и что именно эти абстракции хранятся у человека в памяти [с. 361].
Что собой представляет феноменологически «абстракция – фигура-прототип», автор не поясняет. Однако очевидно, что речь в данном случае идет об образах воспоминания и представления, корни которых трудно отыскать в конкретных перцептивных образах. Это тем не менее не дает оснований считать такие образы абстрактными, так как понятие абстрактный имеет в психологии (а не в быту) достаточно четко очерченное значение и относится лишь к вербальным формам мышления. Так что же такое абстрактные образы и существуют ли они?
Б. Г. Мещеряков и В. П. Зинченко (2004) так разъясняют сущность абстракции:
Формальная абстракция состоит в вычленении таких свойств предмета, которые сами по себе и независимо от него не существуют. Такое отчленение и изолированное выражение его результата возможно только в мысленном плане (в абстракции). Так, геометрическая форма тела сама по себе реально не существует и от тела отделиться не может. Но благодаря формальной абстракции она мысленно выделяется, фиксируется, например, с помощью чертежа и самостоятельно рассматривается в своих особых свойствах. Одна из основных функций такой абстракции заключается в выделении общих свойств некоторого множества предметов и в фиксации этих свойств каким-либо знаком (чаще всего словесным или чертежом). Абстракция такого вида называется обобщающей. Комплекс абстрагированных свойств (формальное общее) становится представителем соответствующего класса предметов и позволяет отличать этот класс от всех других (например, все тела прямоугольной формы отличать от тел других форм). Этот комплекс, фиксированный каким-либо знаком, становится его значением [с. 13].
Следовательно, абстрагировать нечто можно вроде бы даже на чувственном уровне, но лишь путем мысленной группировки многих сходных образов одного предмета или ряда однотипных предметов. Возникающая в результате чувственная собирательная модель-репрезентация абстрактного свойства множества сходных образов-объектов, например их прямоугольной формы или белизны, выступает затем как чувственное значение соответствующего абстрактного понятия. Нередко образ слова, выступающий в качестве абстрактного понятия, или образы иных символов, например иероглифов, обозначающих абстрактные понятия, ошибочно рассматриваются исследователями в качестве абстрактных образов. Однако это образы совершенно конкретных физических объектов, которые лишь выступают как символы (знаки) абстрактных сущностей.
Сформированный человеческим сознанием абстрактный психический объект, треугольник например, может быть затем материализован путем создания нового, уже физического объекта – чертежа или макета треугольника, который становится при этом конкретной физической моделью данной абстрактной сущности, созданной сознанием и не существующей вне его. Можно ли считать абстрактным визуальный образ созданного человеком рисунка или чертежа такой абстрагированной им геометрической фигуры?
Конечно, нет, потому что лишь понятия треугольник, прямоугольник, геометрическая фигура являются абстрактными. Изображенные же на бумаге или сделанные из чего-либо макеты соответствующих фигур являются уже конкретными физическими предметами, и их визуальные образы тоже являются образами вполне конкретных предметов. Следовательно, единичного абстрактного зрительного образа представления-воспоминания, который якобы может возникать в моем сознании при мысли о треугольнике (вообще), не существует.
При появлении в моем сознании мысли о треугольнике (вообще) одновременно возникают разнообразные многочисленные кратковременные образы воспоминания-представления разных треугольников и даже их фрагментов, с которыми я сталкивался в течение жизни. Могут сказать, что данные образы нет оснований считать конкретными, так как я не могу вспомнить, когда и где видел эти треугольники. И все же любой возникший в моем сознании образ всегда конкретен, так как единичные чувственные репрезентации – это всегда репрезентации конкретного объекта или явления реальности. Понятие же абстрактный относится исключительно к вербальным репрезентациям. И здесь ощущения и образы выступают лишь как значения и иллюстрации. Исходя из этого, в принципе неверно говорить о возможности наличия абстрактных образов. Следует также различать абстрактные образы, которые не могут существовать вовсе, и комбинированные образы, например фантастические образы единорога или русалки, которые создаются из фрагментов разных конкретных образов и репрезентируют в итоге нечто отсутствующее в физическом мире.
Итак, следует говорить либо о множестве конкретных образов, составляющих собирательную модель-репрезентацию некой абстрактной сущности (белизны, твердости, теплоты и т. д.), выступающую как значение соответствующего абстрактного понятия, либо, если абстрактное понятие не имеет чувственного значения, – лишь об иллюстрирующих его конкретных образах, которые возникают в сознании при мысли о нем, например о треугольнике. Никакой психический образ не может быть абстрактным, так как образ – чувственная модель, а она по определению всегда и только конкретная. По этой причине мы не можем говорить об абстрактных образах, даже если это образы предметов, факт восприятия которых трудно восстановить в памяти, или образы, которые не позволяют идентифицировать предмет.
В быту люди склонны использовать одни и те же понятия при рассмотрении и психических образов, и образов физических объектов, например произведений живописи. Так, к абстрактным изображениям предметов принято относить те, в которых максимально редуцированы индивидуальные, узнаваемые черты конкретного объекта. Это наиболее явно проявляется в таком направлении живописи, как абстракционизм. Большинство исследователей тоже придерживаются, как обычно, «здравого смысла», который, не разделяя образы психические и образы физические, квалифицирует в качестве абстрактных образов все то, что:
…предполагает отказ от фиксации единичного, случайного в пользу вычленения общего, необходимого… [Новейший философский словарь, 1998, с. 2].
Использование одних и тех же понятий приводит к путанице и непониманию того, что образы психические и те физические предметы, которые тоже принято называть в быту образами, например изображения или фотографии людей, шаржи на них и т. п., – совершенно разные сущности (7). По этой причине терминология, применяемая при обсуждении картин, фотографий, портретов или шаржей, непригодна для использования при обсуждении психических образов.
Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг (2001), обсуждая фотографию мецената Амброса Волларда и его же портрет кисти Пикассо (рис. 33), неожиданно противопоставляют «образные представления», к которым относят и фотографию и портрет, «абстрактным представлениям», к которым относят имена (понятия). Авторы пишут:
Если живопись – это образное представление, то имя изображенного – Амброс Воллард – таковым не является. Оно обозначает человека, но не имеет сходства с ним, поскольку имена, так же как и слова, являются абстрактным, а не образным представлением… [с. 351].
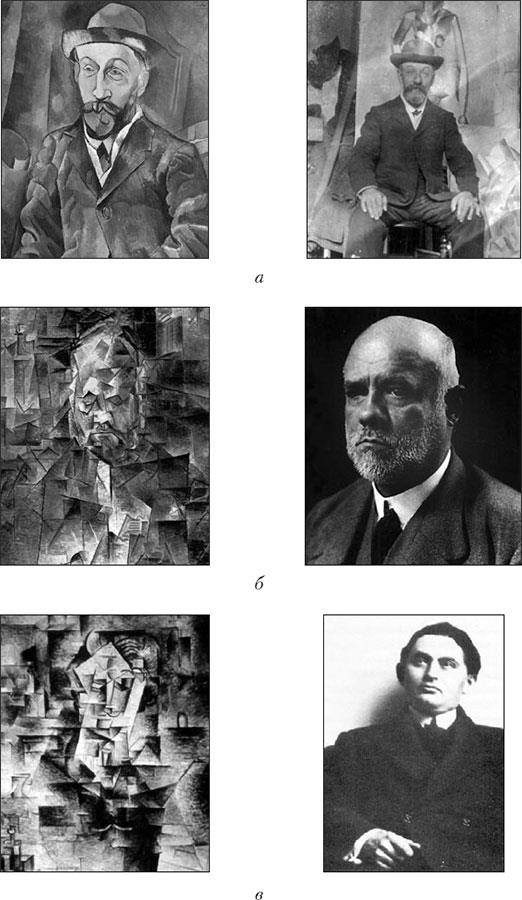
Рис. 33. Портрет кисти Пикассо и фотография торговца живописью Clovis Sagot (а),
портрет кисти Пикассо и фотография мецената Амброса Волларда (б),
портрет кисти Пикассо и фотография издателя работ Пикассо Henry Kahnweiler (в)
Авторы, однако, справедливо отмечают то важное обстоятельство, что любые самые абстрактные образы живописи, то есть абстрактные картины, не являются абстрактными визуальными образами объектов. Следовательно, бытовое понимание, согласно которому абстрактный живописный образ кого-то и абстрактный психический образ – это примерно одно и то же, не может быть принято психологией. Еще раз повторю, что в нашей психике, а потому и в психологии нет и не может быть абстрактных образов. Все образы конкретны. Даже те, которые иллюстрируют абстрактные понятия. На рис. 33, а, б, в приведены, например, все более и более удаляющиеся от оригинала изображения, созданные П. Пикассо, но образы восприятия или представления даже самых далеких из них не являются абстрактными образами в феноменологическом смысле, так как репрезентируют нам конкретные предметы, пусть и являющиеся абстрактными картинами.
Таким образом, можно заключить, что абстрактные образы в живописи – это совсем не то же самое, что абстрактные образы в нашем сознании, так как последних там нет, хотя термины и в том и в другом случае используются одни и те же.
Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг (2001) пишут:
…в процессе мышления мы комбинируем понятия разнообразными, иногда весьма сложными способами. …Многие философы считали, что наши мысли принимают форму суждений, которые включают в себя субъект (предмет, относительно которого выносится суждение) и предикат (то, что говорится относительно субъекта). Суждения могут быть истинными и ложными, например «Яков любит свистеть»… и «белки едят желуди»… Когда мы размышляем, мы нередко создаем новые понятия и формулируем новые суждения. Но большая часть понятий и суждений уже хранится в памяти, где они образуют наши аккумулированные знания, «базу данных», которая поддерживает и подпитывает наши мыслительные процессы [с. 357].
Логики полагают, что суждение114 представляет собой связь слов, оно всегда – утверждение или отрицание. Суждение является или истинным (если в нем утверждается то, что есть в действительности, или отрицается то, чего в ней нет), или ложным [М. С. Строгович, 2004, с. 147]. В каждом суждении есть подлежащее (называется в логике «субъект»), сказуемое (называется «предикат») и связка (слово «есть» или «не есть»). Логики утверждают также, что суждение является «логической формой выражения мысли» и «формой мышления» [М. С. Строгович, 2004, с. 145; А. Д. Гетманова, 2005, с. 60]. Если с последним можно согласиться, то согласиться с тем, например, что суждения «Яков любит свистеть» или «белки едят желуди» являются «логической формой выражения мысли», как и любые прочие суждения, трудно, точнее, нельзя, так как в суждениях нет ничего логического, кроме того, что логика начала ими заниматься раньше психологии.
В литературе, рассматривающей суждения, много неясностей, противоречий и небрежного использования терминов. Даже одни и те же авторы, например М. С. Строгович (2004), нередко рассматривают суждения то как предложения и высказывания, то как вербальные конструкции. А. Пфендер [2006, с. 226–238], объясняя отличия суждения, которое он считает «составным утвердительным мыслительным образованием», от утвердительного предложения, говорит о том, что суждение состоит из понятий, тогда как предложение состоит из слов.
В любом случае термины должны употребляться корректно, а раз так, то суждения и высказывания, как и предложения, – это все же языковые конструкции, тогда как мышление оперирует вербальными конструкциями и понятиями. Однако, исходя из сложившейся к сегодняшнему дню практики и для облегчения понимания, имеет смысл использовать в логике понятие мысленное суждение.
В логике суждения делятся на общие, частные и индивидуальные, на утвердительные и отрицательные, на категорические, гипотетические (условные) и разделительные, на проблематические, ассерторические и аподиктические, истинные и ложные и т. д. Выделяются также суждения простые и сложные (состоящие из нескольких простых). Простые суждения разделяются на: 1) суждения свойства (атрибутивные), в которых утверждается или отрицается принадлежность субъекту свойств, состояний, видов деятельности: роза красная, Пушкин не композитор; 2) суждения с отношениями, в которых говорится об отношениях между предметами: слон больше мыши, Сократ старше Декарта; 3) суждения существования (экзистенциальные), в которых утверждается или отрицается существование предметов: есть города, колдунов не существует. Самые простые мысленные суждения представляют собой не что иное, как пропозиции. Для рассмотрения особенностей и различий суждений имеет смысл обратиться к литературе, посвященной логике (см., например: А. А. Ивин, 1999, 2003; А. Д. Гетманова, 2005, 2007 и др.).
Если мысленными суждениями в форме пропозиций психология стала заниматься с 70-х гг. ХХ в. (см.: Дж. Р. Андерсон, 2002), то умозаключения115 по-прежнему вотчина логиков. В логике не различают мысленное умозаключение – вербальную конструкцию и умозаключение в форме языковой конструкции. Логика обнаружила и исследовала много механизмов построения умозаключений: дедукция, индукция, аналогия, обобщение, абстрагирование, но при этом возвела в абсолют формальный силлогизм. Мысленное умозаключение – это сложная вербальная конструкция (вывод, заключение, предположение и т. д.), которая строится разными способами на основе других вербальных конструкций – посылок. В логике же понятие мысленное умозаключение сужается до «логического умозаключения».
Всегда ли умозаключение – это логическая операция? Нет. Более того, умозаключение вообще может не иметь отношения к мысленной операции с вербальными конструкциями, то есть умозаключение может быть и образным. Например, шимпанзе видит банан, но не может его достать не только подпрыгивая, но и с помощью палки. Тогда обезьяна осматривает помещение, обращает внимание на ящики, которые в нем находятся, укладывает их друг на друга, залезает на них и с помощью палки достает банан (В. Келер, 1930). Возникшая, по-видимому, в ее сознании конструкция из образов ящиков, способная решить возникшую проблему, представляет собой образное умозаключение. В чем и где здесь логика? Ее здесь нет. Мне могут возразить, сославшись на расширительное значение понятия логика, которое отождествляет ее с адекватным, последовательным, аргументированным и эффективным репрезентированием окружающего мира. Тогда я лишь еще раз повторюсь, что это уже совсем не логика, а именно адекватное, последовательное, аргументированное и эффективное репрезентирование, что не одно и то же. И надо называть вещи своими именами.
Наше сознание строит умозаключения и иными способами, например путем замены сенсорной модели вербальной моделью. Так строятся, в частности, описательные вербальные конструкции, например обезьяна достала банан.
М. С. Строгович (2004) пишет:
…умозаключения делятся на две группы – непосредственные… и опосредованные… Непосредственным умозаключением называется такое умозаключение, в котором вывод делается только из одной посылки… Опосредованным умозаключением называется такое умозаключение, в котором из двух и более суждений выводится новое суждение [с. 208].
Мысленное суждение, или вербальная конструкция, состоит из понятий, которые должны сочетаться так, чтобы и она сама (конструкция), и соответствующее ей высказывание или предложение имели смысл. Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг (2001) подчеркивают, что:
…многие грамматически правильные предложения абсолютно не поддаются толкованию: «Бесцветные зеленые мысли неистово спят». Это предложение бессмысленно, потому что абстрактные мысли не имеют цвета, а зеленые вещи не бесцветны. …Отсутствие смысла отличает предложения от непредложений. Это различие обусловлено рядом формальных правил. Правила, определяющие, как нужно объединять слова и словосочетания, называются правилами синтаксиса (от греч. «построение, порядок»). …Правила синтаксиса устанавливают, какие элементы должны быть включены в предложение и в каком порядке эти элементы могут появляться. Эти правила также определяют, как группируются слова [с. 413].
Приведенные рассуждения авторов отражают доминирующие в логике, психологии и лингвистике представления о том, что наличие или отсутствие смысла в предложении определяется правилами синтаксиса, грамматики или формально-логическими правилами. А. А. Ивин (1999), например, пишет:
Бессмысленное выражение – это языковое выражение, не отвечающее требованиям синтаксиса или семантики языка. …Более сложный тип бессмысленного представляют высказывания, синтаксически корректные, но смешивающие разные выражения языка. …«Законы логики не тонут в воде», «Цезарь – первое натуральное число» и т. п. [с. 129-130].
Однако то, имеют предложения смысл или не имеют, зависит не от их соответствия неким формальным правилам логики, законам или «требованиям синтаксиса и семантики языка», а от того, являются ли они моделями окружающего реального или даже только возможного мира (который подчиняется понятным нам законам) или таковыми не являются и не могут являться в принципе. Если они соответствуют глобальной сенсорной модели мира, существующего или возможного, которая имеется в сознании человека, и некоему «построению, порядку» реального или возможного мира, то тогда они имеют смысл. В противном случае они бессмысленны и законы логики, синтаксиса, семантики, языка, лингвистики и т. д. здесь ни при чем.
Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг (2001) полагают, что:
…утверждение (суждение) описывает миниатюрный спектакль, в котором глагол – это действие, а существительные – исполнители, причем каждое играет свою роль. В нашем утверждении о девочке – ударе – мяче «девочка» – это действующее лицо, «мяч» – объект действия, а «ударила» – само действие. Работа слушателя, таким образом, состоит в том, чтобы определить, какие актеры играют различные роли в спектакле и каков его сюжет (Healy & Miller, 1970) [с. 412].
Авторы правы в том, что многие суждения представляют собой описания наших чувственных моделей, то есть вербальные модели чувственных репрезентаций окружающего мира.
А. Пфендер (2006) пишет о том же, хотя и совсем в другой плоскости:
Каждому определенному суждению соответствует определенное положение дел. Суждению «сера желтая» соответствует положение дел, состоящее из вещества серы и его желтизны. Суждение проецирует из себя вовне это положение дел. Оно противопоставляет его себе таким образом, что проецируемое положение дел всегда находится вне проецирующего его суждения, всегда остается «по ту сторону» его или же всегда ему «трансцендентно». …Поскольку суждение, проецируя отличающееся от него положение дел, определяет его из себя самого, постольку, следовательно, суждение является первичным, а положение дел – вторичным [с. 228–229].
Такой вывод автора нельзя принять, так как он может быть верным только относительно тех «положений дел», которые недоступны восприятию. Если же они доступны восприятию, а таких большинство, и, следовательно, моделируются сенсорно, то описывающая их вербальная конструкция вторична, а «положение дел», моделируемое сенсорно, первично.
А. Пфендер (2006) полагает, что:
…в любом суждении, выражаемом в языковом утвердительном предложении, следует… различать три уровня… уровень предложений, уровень суждений и уровень проецируемых суждениями положений дел [с. 230].
Последний уровень соответствует тому, что я называю сенсорной моделью реальности. Автор пытается выстроить принципы формирования вербальных моделей, но делает это, исходя из самих моделей, тогда как надо делать, исходя из окружающей человека реальности, для моделирования которой в первую очередь и формируются вербальные конструкции. Он выделяет разные виды вербальных конструкций (мысленных суждений) в соответствии с «полагаемыми видами положения дел». По сути дела, А. Пфендер пытается дать классификацию элементарных вербальных психических конструкций. Эта задача бесконечно сложная, поэтому я даже не буду пытаться здесь ее рассматривать.
Вернемся к тому факту, что многие суждения представляют собой описания чувственных репрезентаций, то есть вербальные модели моделей. Данное обстоятельство мы уже рассматривали (см. разд. 2.4.3). Суждение и умозаключение – это очень часто пропозиции или простые вербальные конструкции, состоящие из двух-трех пропозиций, которые сами возникли на базе моделей-репрезентаций тех или иных чувственно смоделированных субъектом сущностей окружающего его мира. Поэтому формируются многие суждения и умозаключения не на основе абстрактных логических законов, а на базе чувственных моделей, репрезентирующих реальность. Даже в тех случаях, когда и суждения, и умозаключения представляют собой конструкции из абстрактных понятий, они формируются мышлением не на основе формально-логических законов, а по механизму обобщения, индукции, аналогии.
Оппоненты могут сказать, что механизмы обобщения, индукции, аналогии и т. п. не что иное, как логические механизмы. И тем не менее логического в них – одно название, так же как в суждениях и умозаключениях. И ничего более.
Мы уже говорили о том, что логические конструкции, представленные силлогизмом, бесполезны для познания мира. Так, для логиков, например:
…логическое следствие из данных посылок (или умозаключение. – Авт.) есть высказывание, которое не может быть ложным, когда эти посылки истинны [А. Д. Гетманова, 2007, с. 139].
Проблема только в том, что в реальной жизни этих истинных посылок в большинстве случаев нет. Они есть лишь в учебниках логики, поэтому логическое следствие ничего не дает для познания, и Б. Рассел (2007) не прав, когда пишет:
Между философами идет старый спор по поводу того, может ли дедукция (читай «логика». – Авт.) привести к новому знанию. Мы можем видеть, что в определенных случаях дедукция дает-таки новое знание. Мы уже знаем, что два и два всегда дает четыре, и мы знаем, что Браун и Джонс – это два и Робинсон и Смит – это два, а Браун, Джонс, Робинсон и Смит – это четыре. Это новое знание, не содержащееся в посылках, потому что общее суждение «два и два есть четыре» не говорит нам, что есть такие люди, как Браун, Джон, Робинсон и Смит, и конкретные посылки не говорят нам, что их было четверо, в то время как выводимое конкретное суждение говорит нам об этой вещи [с. 75–76].
Автор, однако, не учитывает слова Дж. С. Милля (см. разд. 2.5.1) о том, что большая посылка аристотелевского силлогизма – это уже обобщающий вывод, включающий в себя наше будущее умозаключение по определению. Посылка «два и два дают четыре» – это универсальная вербальная модель любого множества любых объектов, в том числе и вышеперечисленных, соответственно, ничего нового из умозаключения Б. Рассела мы не узнали.
В реальной жизни мы делаем умозаключения не на основе двух логических посылок, а на основе многих неопределенных, вероятных и истинных в разной степени посылок, моделирующих окружающий нас мир. В лучшем случае мы обычно можем выстроить гипотетический силлогизм116. Сами логики хорошо понимают это. Так, М. С. Строгович (2004) пишет:
…психологически наше мышление вовсе не протекает обязательно в формах силлогизма… Обычно наши рассуждения по различным вопросам начинаются с конкретного факта… Наше рассуждение может и не иметь форму силлогизма и часто ее не имеет, но если мы хотим проверить правильность наших рассуждений, хотим проверить, является ли вывод логически обоснованным, мы нашему рассуждению придаем силлогистическую форму [с. 265–266].
Данная цитата лишний раз показывает, что человек не мыслит силлогизмами.
Логика разделяет умозаключения на дедуктивные и индуктивные117. Вывод из общих положений для частного случая – это дедуктивное умозаключение – от общего к частному. Вывод общего положения из отдельных частных случаев – это индуктивное умозаключение – от частного к общему [М. С. Строгович, 2004, с. 208]. Особым видом индуктивного умозаключения является аналогия118.
Дедуктивные умозаключения позволяют выводить из истинных посылок истинные заключения. Однако, как многократно указывали разные авторы, дедуктивный силлогизм формальной логики бесполезен для познания, так как выводит умозаключение из известных посылок. Данный факт признают даже логики. А. А. Ивин (1999), например, пишет, что именно поэтому не дедукция, а индукция позволяет нам узнавать новое:
Почти все общие положения, включая и научные законы, являются результатами индуктивного обобщения. В этом смысле индукция – основа нашего знания [с. 244].
Однако, как замечает сам автор [1999, с. 242], в индуктивном умозаключении связь посылок и заключения опирается не на законы логики, а на некоторые фактические или психологические основания и может содержать информацию, отсутствующую в них. Достоверность посылок не означает достоверности индуктивного умозаключения. Индуктивные умозаключения обычно дают нам не достоверные, а лишь правдоподобные заключения [А. Д. Гетманова, 2007, с. 175].
Более того, из следующей цитаты:
Вывод с помощью индукции имеет вероятностный характер. Он будет более надежным, если а) число предметов, о которых говорится в посылках, будет большим; б) эти предметы будут более разнообразны; в) они будут характерными, типичными представителями того класса предметов, о котором говорится в заключении; г) субъект заключения будет возможно меньшим, а предикат возможно большим по объему; д) признак, переносимый на совокупность предметов, о которых идет речь в заключении, будет более существенным для них [Новейший философский словарь, 1998, с. 266], —
вообще непонятно, а при чем здесь логика? Точнее, понятно, что логика здесь только при том, что проблемы индукции обсуждаются в рамках предмета «Логика», да и сама индукция только по той же причине «логическая». Именно логика, а не психология первая начала изучать особенности построения языковых, а следовательно, и вербальных конструкций. Но, как я уже говорил, это обстоятельство не может считаться основанием для отнесения как индуктивных умозаключений, так и умозаключений вообще к «логическим» операциям, «логическим» процессам, «логическим» механизмам и т. д.
Итак, то, что построение вербальных конструкций осуществляется нашим мышлением не в соответствии с логическими законами, мы уже обсудили. Перейдем теперь к другому важнейшему вопросу: является ли построение вербальных конструкций абстрактным оперированием логическими символами, как до сих пор повсеместно тоже принято считать?
Дж. Лакофф (2004) пишет:
С объективистской точки зрения во Вселенной существует объективно-истинная рациональность, которая выходит за пределы любого существа и любого опыта. Согласно этому взгляду, мы мыслим правильно, когда наши мысли находятся в согласии с этой трансцендентальной рациональностью. Математика обычно рассматривается как трансцендентально-истинная – истинная относительно чистых математических сущностей в некотором абстрактном «платонистском» мире [с. 477].
Само существование математической истины иногда приводится как свидетельство существования единственной трансцендентальной рациональности, к которой мы можем получить доступ [с. 483].
Иными словами, Вселенная и все ее сущности подчиняются законам трансцендентальной (непостижимой для нас), а следовательно, высшей рациональности119. Человеческое сознание может лишь более или менее правильно «отражать» объективные сущности и рациональность вселенского устройства. Мышление тоже лишь в большей или меньшей степени «отражает» изменения Вселенной, и чем в большей степени оно им соответствует, тем «правильнее» оно и наоборот. Трансцендентальная рациональность логична в своей основе, следовательно, «правильное» мышление должно подчиняться законам логики. Так как слова языка и понятия в соответствии с доминирующими сегодня представлениями – это абстрактные символы, не связанные с чувственными моделями окружающего мира, составляющие «независимый лингвистический модуль», «отдельный когнитивный компонент» (Н. Хомский, 1972, 2004, 2004а, 2005, 2005а; Fodor, J. A., 1983 и др.), то и наше вербальное мышление – это лишь «оперирование абстрактными символами» в соответствии с логическими законами.
Дж. Лакофф (2004) категорически возражает против такого подхода:
Значимое мышление не представляет собой просто оперирование абстрактными символами, незначимыми сами по себе и приобретающими значение только в силу своей соотнесенности с вещами в мире. Мышление не является абстрактным и не-материализованным явлением, в котором проявляется некая трансцендентальная рациональность. Поэтому разум не является просто «зеркалом природы», а понятия – «внутренними репрезентациями внешней реальности» [с. 480].
Автор [с. 13] указывает, что полученные в последние годы данные принципиально меняют подход не только к категориям, но и к человеческому мышлению в целом. Он говорит о существовании понятий, которые не основываются непосредственно на опыте, используют метафоры, метонимию и ментальные образы. Все это выходит за пределы «буквального отражения», или репрезентации внешней реальности. Поэтому вербальное мышление есть нечто большее, чем простое оперирование абстрактными символами. Дж. Лакофф полагает, что необходимо подвергнуть критическому пересмотру классический подход к категоризации, а тем самым подвергнуть критическому анализу и сомнению взгляд на мышление как на дематериализованное оперирование символами и, соответственно, на наиболее популярную версию метафоры разума как компьютера. По его [с. 3] мнению, человеческая категоризация – продукт человеческого опыта и воображения, двигательной активности и культуры, метафоры, метонимии и ментальной образности. Человеческое мышление решающим образом зависит от этих факторов и, следовательно, не может быть охарактеризовано только в терминах оперирования абстрактными символами.
Дж. Лакофф [2004, с. 482-483] полагает, что мышление использует два вида символических структур: концепты базового уровня и кинестетические образные схемы. Концепты базового уровня отражают структуру перцептуально-моторного опыта и человеческую способность формировать ментальные образы. Кинестетические образные схемы доконцептуально конструируют человеческий опыт функционирования в пространстве. На этом двойном базисе строятся посредством образных механизмов (особенно метафоры и метонимии) значимые символические структуры.
Дж. Лакофф (2004) спрашивает:
Является ли мышление всего лишь механическим оперированием абстрактными символами, незначимыми сами по себе, но получающими свое значение через конвенциональные соответствия с вещами во внешнем мире – и ничем более? …Действительно ли понятия являются «внутренними представлениями внешней реальности»? Является ли мышление «зеркалом природы»? Действительно ли правильное мышление просто отражает логику внешнего мира? [С. 209-210.]
И сам же отвечает:
…нашим ответом на все эти вопросы будет нет… [с. 210].
Действительно, в логике и в психологии, уступившей логике ведущую роль в изучении понятийного мышления, принято считать, что вербальные конструкции, в частности суждения и умозаключения, – результат рационального логического мышления. И создаются эти конструкции по законам логики, которая присуща окружающему миру, отражающему этот мир мышлению, а значит, и языку, его грамматике и синтаксису, то есть вербальные конструкции рациональны и их построение мышлением подчиняется формальным логическим законам. Другими словами, мышление в соответствии с логическими законами и правилами оперирует абстрактными вербальными символами, означающими что-то только в силу их соотнесенности с объектами окружающего мира. Как я пытался показать в предыдущих главах, все это не так. Вербальное мышление не подчиняется абстрактным законам логики, понятия – не абстрактные символы, обладающие значениями лишь в силу их соотнесенности с объектами окружающей реальности. Да и сам «логический закон» – это всего лишь:
…схема логической связи суждений, общезначимость которой вытекает из одной только интерпретации входящих в нее логических элементов и, по существу, не связана с фактической истинностью «наполняющих» ее высказываний [Современный философский словарь, 2004, с. 235].
Логические законы вовсе не имеют отношения к процессам возникновения в нашем сознании мыслей, в том числе вербальных конструкций. И даже перестраивая уже сознательно эти спонтанно возникшие конструкции и формулируя свои суждения и предложения, мы обычно не используем никаких логических законов.
Вербальные конструкции выстраиваются нашим мышлением не по законам логики, а в первую очередь по механизмам замещения чувственных репрезентаций реальности символическими ее моделями. При этом мышление использует аналогию, обобщение, абстрагирование, замену одних моделей другими и т. д.